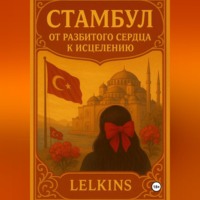Полная версия
Там, где Босфор замолкает
– А что ты хочешь?
Он посмотрел на неё прямо. Слишком прямо.
– Чтобы ты не боялась своей чувствительности. Чтобы не пряталась за вопросы.
– А ты? – бросила она. – Ты ведь тоже прячешься. Не смотришь на меня по-настоящему. Говоришь – а сам будто через стекло.
Он обернулся к воде. Молчание затянулось.
– Я женат, – сказал он вдруг. Глухо. Без пафоса.
Тишина.
– Но мы давно не вместе. Фактически. Эмоционально. Человечески.
Мелисса смотрела на него, не двигаясь.
– Значит, ты тот, кто идёт за чувствами, но ещё держит за руку прошлое?
– Я – тот, кто слишком долго жил так, будто меня нет. И только с тобой я начал ощущать себя живым.
– Это… слишком, – прошептала она.
Он кивнул:
– Согласен. Слишком. Но знаешь, что слишком на самом деле?
– Что?
– Годами сидеть за ужином и не слышать, как тебя зовут. Смотреть в глаза женщине и не видеть, что ты там исчез. Говорить «я люблю» и думать «я умираю».
Она отвернулась.
– Мне не нужна чужая боль, Гёкхан. У меня своей – навалом.
Он наклонился чуть ближе:
– А я не хочу делать тебя хранилищем боли. Я просто хочу быть в твоём дне. В разговоре. В взгляде.
– Без обязательств?
– Без обмана. Даже если это коротко – я хочу, чтобы было по-настоящему.
Она молчала. Пальцы судорожно перебирали край шарфа. А потом вдруг сказала:
– Я боюсь.
– Я тоже, – просто ответил он.
Они замолчали. Но теперь – это была уже другая тишина. Не между. А внутри.
И когда она встала, он не спросил: «Куда ты?»
Он просто встал рядом.
«Люди не обязаны быть вечными, чтобы быть важными. Иногда один разговор с нужным человеком лечит больше, чем годы с правильным».
LELKINS
Глава 5. Мишка с рынка и сердце не в коробке

Стамбул снова шумел. Он никогда не замолкал полностью – как сердце, которое бьётся даже во сне. Но сегодня Мелисса чувствовала, что город говорит тише. Или просто она стала слушать по-другому.
Они с Гёкханом шли по базару в Бешикташе. Всё было громко, хаотично, вкусно. Продавцы выкрикивали цены, женщины спорили, дети тянулись к блестящим игрушкам. Над головами – гирлянды луковиц, гранаты, чашки, ткань. Под ногами – старый камень, пропитанный сотнями историй.
Гёкхан шёл рядом, немного впереди. Плечом расчищал путь сквозь толпу, иногда бросал взгляд назад, чтобы убедиться – она рядом. Не держал за руку, не трогал. Но рядом с ним она чувствовала себя как под зонтами старого трамвая – защищённой и слегка потерянной.
– Какой у вас здесь… театр, – сказала Мелисса, с улыбкой наблюдая за тем, как торговец орёт на покупателя, одновременно жаря рыбу.
– Это не театр. Это мы. Просто живые.
Он пожал плечами.
– У нас эмоции не прячут в пакеты.
Она рассмеялась:
– А у нас – как раз наоборот. Всё завёрнуто. Даже боль. Особенно боль.
Он ничего не ответил. Лишь смотрел вперёд. Потом резко свернул направо – к ряду с мягкими игрушками, мозаикой и китайскими лампами.
– Подожди.
Она осталась, не понимая зачем. Через минуту он вернулся. В руках – плюшевый медведь.
– Это тебе, – просто сказал он.
– Серьёзно?
Она удивлённо взяла игрушку. Медведь был коричневый, немного кривой, но с вышитым сердцем на животе.
– Ты даришь мне… мишку?
Он кивнул.
– Да. Потому что ты часто выглядишь так, будто забываешь, что тебе тоже можно что-то дарить.
Она замолчала. Не знала, смеяться или плакать. И выбрала молчание. Смотрела на мишку и ощущала, как внутри отклеивается одна из тех старых пластырей, которые давно уже не лечат.
«Иногда нам не нужны люди, чтобы быть спасёнными. Достаточно мишки, купленного без причин».
LELKINS
* * *Они пошли дальше. Мелисса держала игрушку неловко – как будто та могла начать говорить. А Гёкхан молчал. Не ждал благодарности, не требовал объяснений. Он просто знал: кто-то давно не получал ничего просто так.
– Гёкхан, – она наконец сказала, – зачем ты это делаешь?
– Что именно?
– Покупаешь плюшевых мишек женщинам, которых почти не знаешь.
Он улыбнулся.
– Я не покупаю мишек. Я просто замечаю, когда человеку хочется снова быть ребёнком. Хотя бы минуту.
Она опустила глаза. Сжала игрушку.
– А ты откуда знаешь, что мне этого хотелось?
– Я просто умею видеть.
– А ты?
– Я? – переспросил он.
– Тебе чего хочется?
Он посмотрел в сторону.
– Иногда… просто, чтобы меня не пытались понять. Только остались.
Позже они вышли с базара, сели на краешек каменной набережной. Чай в стаканах уже остывал. Мишка лежал рядом, прислонившись к её сумке. Мелисса смотрела на воду, Гёкхан – на чай.
– Знаешь, – сказала она, – у нас в России мужчина с мишкой – это как-то… странно.
Он усмехнулся:
– А здесь странно – это быть без чувств. Я выбрал быть с мишкой.
Она кивнула. Глубоко. Почти с внутренним поклоном.
Когда она вернулась в отель, первым делом поставила мишку рядом с подушкой. Не на стол, не в шкаф – рядом. Как будто он был чем-то большим, чем игрушка. Может быть, новой частью её.
Она легла, обняв его. И впервые не почувствовала себя одинокой. Потому что кто-то увидел её без брони – и не отвернулся.
Ночь была тёплой, но в комнате стояла тишина, как будто город на минуту замолчал вместе с ней.
Мелисса не спала. Просто лежала на боку, прижав к себе мишку. Он был маленький, неровный, шит словно впопыхах, с искренностью, которой не хватало многим взрослым. И всё же в нём было что-то – как взгляд, как прикосновение, которое ничего не просит, но остаётся в теле навсегда.
Она вспоминала, как он держал игрушку. Не как сувенир. Как жест.
– «Ты выглядишь так, будто забываешь, что тебе тоже можно что-то дарить».
Сердце отозвалось тихо. Не болью – каким-то новым стуком. Невесомым, непривычным.
На следующее утро она проснулась рано. Гёкхан написал:
«Сегодня рынок специй. Не ради покупок. Ради запахов. Если не испугаешься – встречаемся в 9:00 у Галаты».
Она не испугалась. Уже не испугалась.
На рынке специй было душно, шумно и… волшебно. Корица, кардамон, розовая соль, мята, бархатные сухофрукты, орехи, шепот пряностей, как стихи, развеянные по ветру. Она шла за ним – он двигался уверенно, почти вальяжно, как человек, который давно не ищет – только находит.
– Эти специи, – говорил он, – как люди. Иногда всё, что им нужно – правильная температура, чтобы раскрыться.
– А если не раскрываются?
Он взглянул на неё:
– Значит, не твоя сковорода.
Она рассмеялась. Нервно. Ей казалось, он снова говорит не о специях.
У лавки с лавандой он остановился. Взял горсть и протянул ей.
– Закрой глаза.
Она повиновалась.
– Вдохни. Глубже.
Запах был сдержанный, пыльный, но в нём что-то щелкнуло внутри. Как будто в памяти ожил фрагмент детства. Бабушкина скатерть. Лето. Пустой дом, наполненный теплом. Безопасность.
Она открыла глаза. Смотрела на него – уже иначе. Как на человека, с которым можно делить не только тишину, но и простые запахи.
– У тебя есть кто-то, кто знает, как ты пахнешь, когда грустишь? – спросил он неожиданно.
Она замерла.
– Нет, – ответила.
– Жаль. У каждого должен быть такой человек.
Он снова положил лаванду – теперь ей в ладонь.
– Возьми. На память.
– А вдруг она выветрится?
Он пожал плечами.
– Значит, придёшь за новой.
Вечером, в номере, мишка и лаванда лежали рядом. Она смотрела на них, будто на маленькую армию против одиночества. И, впервые за долгое время, не чувствовала страха перед завтрашним днём.
Она легла на кровать, не раздеваясь, села, подтянула колени к груди и прижала к себе мишку, словно это могло замедлить ночь, растянуть её в что-то большее, чем просто отдых. Ночь становилась не границей, а переходом. Между «раньше» и «сейчас». Между «одна» и… кем-то.
Лаванда в ладони – всё ещё тёплая от его пальцев – будто дышала своей тихой жизнью. В этом был смысл. Почти молитвенный. Она приложила веточку к лицу, вдохнула. И почти – почти – позволила себе улыбнуться.
Телефон лежал рядом, молчаливо светился уведомлением. Не от него – просто откуда-то. Группа в мессенджере. Кто-то из московской жизни. Но Мелисса не открыла. Не хотелось туда возвращаться. Не хотелось даже вспоминать, что за этим городом есть другие. Что есть страны, дни недели, графики и планы. Здесь всё было иначе. И, может, впервые за долгое время – лучше.
Утром город проснулся шумом улицы. Мелисса вышла на балкон в халате отеля, босиком. Внизу кто-то спорил – быстро, на турецком, с раздражением и страстью. Кто-то пел, кто-то продавал хлеб. Чайки падали вниз, как белые листья, и снова взмывали ввысь.
Она держала в руке тот самый лавандовый стебель. Уже не такой свежий. Но её. Она подумала: «А ведь я могу пойти туда снова. В лавочную. Даже если его там не будет».
Но он был.
– Доброе утро, – сказал Гёкхан, будто не удивлён, что она вернулась.
– У тебя снова лаванда? – спросила она.
– Сегодня жасмин. Он ярче. Как ты.
– Уверен? Я иногда серая.
– Ты умеешь быть серой красиво.
– Это был комплимент?
– Почти признание.
Она не ответила. Взяла чашку. Пахло кардамоном и чем-то острым. Потом заметила на полке небольшую деревянную коробочку.
– Это что?
– Коробка забытых запахов, – сказал он. – Люди приносят, что им напоминает кого-то. Я храню.
– Почему?
– Потому что память – не только фотографии. Это – то, что не выветривается. Если правильно закрыть.
– А если человек ушёл? Навсегда?
Он посмотрел на неё мягко:
– Иногда запахи – всё, что у нас остаётся. И всё, что нужно.
Потом они снова пошли по улицам. Молча. Гёкхан шагал медленно, как будто знал: время теперь не враг. А потом, почти у самого Галатского моста, он вдруг сказал:
– Ты никогда не спрашиваешь, кто я. Что у меня за жизнь. Почему я здесь.
– Потому что ты говоришь не словами, – сказала она. – А всем остальным.
Он замер на секунду. Посмотрел на неё – не взглядом, а каким-то другим чувством. И сказал:
– У тебя сердце не в коробке. Оно – в мишке, в лаванде, в шаге, который ты сделала навстречу. Я это чувствую.
Она замерла. Медленно вдохнула. Её голос чуть дрожал, но она не боялась:
– А ты? Где твоё сердце?
Он вздохнул, почти улыбнулся – и впервые за всё время ответил прямо:
– В глазах тех, кто видит меня настоящим. Сейчас – в твоих.
Позже, когда они прощались у лестницы в её отель, он протянул руку. Не чтобы попрощаться – а как будто чтобы напомнить: он рядом.
Она не взяла. Но посмотрела на него – так, как смотрят, когда уже точно знают: всё началось.
«Некоторые моменты не требуют фотографий. Они просто случаются – и остаются в тебе, навсегда».
LELKINS
Глава 6. Я говорю впервые, ты слушаешь по-настоящему

Они сидели у воды, на той самой скамейке, что уже знала их дыхание. Скамейке, на которую не садились чужие. Как будто она понимала: это место – их. Никто не разговаривал, но между ними звучала бесконечная, важная тишина.
Мелисса смотрела на Босфор. Ветер трогал её волосы, и в этом было что-то будто бы интимное. Гёкхан сидел чуть в стороне, не приближаясь, но и не отдаляясь. Он не спешил. Он никогда не торопил её. И, может быть, именно поэтому она начала говорить:
– Когда мне было шесть, я украла куклу. Из магазина. Потому что у всех девочек во дворе были куклы, а у меня – только пластмассовый солдатик с отломанной ногой. Мама тогда отвела меня обратно, заставила извиниться. И потом молчала со мной два дня.
Он ничего не сказал. Только слушал. Это молчание не обижало – оно держало.
Она продолжила:
– С тех пор я всегда думала, что если просишь – значит, унижаешься. Я слишком долго была ребёнком, который старается не мешать взрослым. И теперь, во взрослом возрасте… я будто всё ещё стараюсь быть тенью.
Гёкхан повернул к ней голову, не говоря ни слова. Лицо его было почти спокойным, но в глазах – она это почувствовала – был отклик. Настоящий. Живой.
– Я боюсь… – она остановилась, сделала глоток воздуха. – Боюсь, что со мной невозможно остаться. Что мне нечего дать. Что даже если кто-то останется – это будет из жалости, или из вины. А не потому что… потому что любит.
Он наклонился немного ближе.
– А что ты считаешь любовью? – спросил он негромко.
– Спокойствие, – ответила она сразу. – Когда не надо заслуживать. Когда просто можно быть. Сломанной, сильной, глупой, яркой, без макияжа, с криком, с усталостью. И тебя не вычёркивают за это.
Он долго молчал. Потом сказал:
– Мне жаль, что ты росла в доме, где любовь надо было заслужить.
Она кивнула, не смотря на него.
– А ты в каком доме рос?
– В том, где от мужчин ждали молчания. Где чувства – это слабость. А доброта – угроза. Меня учили быть правильным. Но внутри я всё время хотел просто обнять кого-то и не говорить ничего.
Она посмотрела на него.
– Значит, мы оба теперь учимся.
Он кивнул. Потом, чуть наклоняясь вперёд, спросил:
– На что ты никогда не пойдёшь? Даже ради любви?
Она подумала. Долго. Потом сказала:
– На предательство себя. Если любовь заставит меня сжечь себя до конца – это уже не любовь.
Он кивнул.
– А ради чего ты бы могла умереть?
– За ребёнка. Даже чужого. И… – она замялась. – Наверное, если бы кто-то был мне дороже самой себя. Хоть на миг.
Он смотрел в воду. И вдруг задал третий вопрос:
– Что в тебе самой тебя раздражает?
Мелисса усмехнулась грустно.
– То, что я умею притворяться сильной. Настолько хорошо, что сама в это верю. Пока не разрушаюсь. А потом снова собираю себя, как мебель из IKEA – без инструкции.
Он засмеялся. Тихо, но с настоящим теплом.
– Прости. Это было хорошо. И больно. Одновременно.
– А ты? – спросила она вдруг. – На что ты не пойдёшь?
– На жизнь без правды. Даже если она разрушит меня.
– Ради чего умер бы?
– Ради своей сестры. Она была моим первым другом. До сих пор остаётся.
– Что в себе не любишь?
Он подумал. Потом сказал:
– Иногда я слишком долго молчу. А потом, когда говорю – уже поздно.
Они замолчали. Не потому что закончились слова. А потому что теперь между ними было не молчание, а честность. Прозрачная, как вода в свете луны.
– Знаешь, – сказала она, – я сейчас не боюсь.
– Почему?
– Потому что ты рядом.
– Я всегда рядом, если нужно молчать. Но я останусь, если ты захочешь говорить.
Она наклонилась вперёд, ближе к нему.
– Я уже начала. Не останавливай меня.
Он ничего не сказал. Просто взял её руку. Не как в кино – не резко, не страстно. Просто уверенно. Как будто знал: этот жест важнее любого признания.
И в этот момент тишина Босфора стала похожа на музыку.
Ночь вокруг них сгущалась, словно чернильное полотно, и только маяки на далёких кораблях отражались в воде мягким оранжевым светом. Скамейка, знакомая им теперь как родная, казалась тронной и одновременно хрупкой – как память, на которую нельзя опереться, но от которой невозможно отказаться.
Мелисса глубоко вздохнула, потом закрыла глаза:
– Я никогда не думала, что смогу рассказать тебе это, – начала она, даже не открывая глаз. – Слишком много лет я хранила свою историю под замком. В России я жила между ожиданиями других и голосом, который всё ещё звучит за границей – слова: «Ты должна быть сильной». А сильная – это значит недоступная. И я выбрала это…
Она открыла глаза. Он смотрел на неё, опершись на локоть.
– Ты думаешь, – продолжила, – что сильная – значит защищённая. Но это не так. Сила – это способность чувствовать, даже если рушится внутренняя опора. А я… я научилась прятать опору так глубоко, что забыла, где она.
Он кивнул.
– Как прятала?
– Под работой. Под маской оптимизма. Под тем, что я говорю: «Конечно, я справлюсь». И всё это дошло до того, что я сама в это поверила. А когда меня трясло – я… делала вид, что это просто усталость. Но это была усталость от самой себя. Тому, кого не разрешала сдаваться.
Молчание стало длинным. Он не задавал вопросов, но его взгляд говорил: «Я здесь».
Она продолжила, голос стал тише:
– Когда я уехала из России… я думала, что сбегу. Уйду от тех слов, которые казались стандартными: «Ты не такая, как все». Но с каким смыслом «не такая, как все», если ты всё равно одна?
– И как сейчас? – спросил он мягко. – Ты по прежнему одна?
Она посмотрела на Босфор. Волны струились, как мысли, не поддающиеся контролю.
– Не знаю. Иногда – да. Иногда – нет. Бывает, испытываю такое чувство, что могу исчезнуть, как тень дома перед заходом солнца. И всё, что оставит меня в мире – это слова, которые хоть кто-то сказал. Только не потому, что должен. А потому что захотел услышать меня.
Он молчал. Просто слушал. Но она чувствовала: это не безучастие. Это прихотливая форма участия, где каждое слово весит тонну.
– Я хочу спросить… – она замялась. Глубоко вдохнула. – Ты никогда не боялся, что сольёшь свою историю? Расскажешь кому-то всё… а потом кто-то скажет: «Фу, зачем ты это говоришь»?
Он задумался.
– Каждый раз, когда я говорил – я как будто выходил на краю крыши, – почти шепотом ответил он. – И это было страшно. Но… я понял – если остаёшься на крыше слишком долго, на тебе начинают стричь ветхие крыши. То есть – всё crumbles, если не делишься.
Мелисса оценила это сравнение. Оно было точно и грубо, как сами крыши.
– А ты? – сказала она, – о чём ты молчал?
Он затылком коснулся спинки скамейки:
– О прошлом. О том, что я был не тем человеком, которого одобряли. Я был недостаточно нежен. Недостаточно сильным. Я боялся, что если покажу это – никто не захочет до конца смотреть.
Её пальцы непроизвольно потянулись к его руке. Она замялась, но он не отшутил – и позволил ей дотронуться.
– Я понимаю, – сказала она тихо.
Очередное молчание. Гёкхан посмотрел прямо на воду:
– Расскажи мне о ней… – сказал он, не глядя. – О женщине, которая вам не дала мишку, но дала куклу ребёнку.
Он назвал ту же самую куклу.
Она удивлённо подняла глаза. Потом улыбнулась горько:
– Её звали Оксана. Она была педагогом. Вроде бы добрая, но в её тишине было больше страхов. Она боялась быть неправой. Поэтому обучала нас – своих учеников и детей – лучше быть нужными. А не видимыми. И я выросла в тени незаметной доброты.
Она замолчала. Потом тихо рассказала про день похорон отца. Как каждый взрослый сказал ей: «Ты теперь взрослая». Как она слишком рано стала «сильной». Как с тех пор страх – будто под кожей – не ушёл.
Он нежно пожимал плечами.
– Но ты всё равно говоришь. Здесь. И это – сила не той, которая делает человека каменным. А той, которая делает его живым.
Её глаза потекли. Редко так бывает – когда эмоция не просит уединения, когда она спокойно принимает присутствие.
– Знаешь, – она вздохнула, – мне хочется больше такого: чтобы слова были не попыткой заполнить тишину. А памятью. Что можно проживать, а не прятать.
Он взял её ладонь в свою. Не стойкую. Но тёплую:
– Тогда разговаривай. Я обещаю – не заменю твои слова компромиссами. Я буду слушать.
Она улыбнулась ему, вытирая щеку:
– Спасибо.
Они сидели вместе, держась за руки. Гёкхан больше не ждал. И она не стеснялась, потому что слов больше не требовалось.
И в ночи, на том самом берегу Босфора, их тишина уже не была пустотой. Она стала началом.
Они всё ещё сидели на скамейке, но ночь уже не казалась такой безжалостной. Луна, как будто чуть опустившись, отразилась на воде – дрожащим овалом, будто всё в этом городе умеет слушать, даже свет.
Мелисса глубоко вдохнула. Гёкхан всё ещё держал её за ладонь, но теперь чуть осторожнее, будто хотел сказать: если захочешь – отпущу, если нужно – останусь.
– Я никогда не любила апрель, – сказала она вдруг. – Он будто крадёт тепло, даже когда день ещё тёплый.
– А мне кажется, апрель – как вино, – ответил он. – Сначала кажется, что кислый. А потом раскрывается – и уже не хочешь возвращаться в март.
Она посмотрела на него с лёгким удивлением.
– Удивляете вы меня, Гёкхан. То таксист, то философ.
– У каждого философа был хотя бы один день плохим водителем, – усмехнулся он. – И наоборот.
Они засмеялись. Смех был тихий, тёплый – как дыхание под пледом. Но потом наступила пауза. И вдруг она почувствовала – как её рука в его ладони стала чуть дрожать. Не от страха. От нежности, которая накрывает, как вдруг надвигающийся шторм – без угроз, но с властью.
Он посмотрел на неё. Глаза были мягкими, внимательными. Ни намёка, ни игры. Только честность.
– Можно задать тебе странный вопрос? – спросил он.
Она кивнула.
– Что в себе тебе хочется сохранить навсегда?
Мелисса застыла. Потом, не отводя взгляда, сказала:
– Умение чувствовать. Даже когда больно. Даже если это никому не нужно.
Он кивнул.
– Это редкое качество. И опасное. Но самое живое из всех.
Она улыбнулась:
– А ты?
– Я хочу сохранить то, что происходит сейчас. Не момент – чувство. Что есть кто-то, с кем можно просто… быть.
Они снова замолчали. На фоне тишины шум воды стал громче. Будто Босфор был между ними и всем остальным миром.
Он повернулся к ней чуть ближе. Медленно, без давления, без нужды в действии. Только ближе – так, чтобы она почувствовала тепло его плеча. Она не отстранилась.
– Ты красивая, когда не прячешься, – сказал он почти шёпотом.
Она не знала, как ответить. Это не был комплимент в привычном смысле. Это было признание в уважении. Он увидел в ней то, что она не показывала годами.
– Спасибо, – прошептала она.
– И когда молчишь тоже, – добавил он.
Снова тишина. Долгая. Спокойная. И не надо было ничего больше.
Потом он вдруг спросил:
– На что ты никогда не пойдёшь?
Она задумалась. Ответ был внутри неё давно.
– Я никогда не стану той, кто любит наполовину. Или делает вид, что не любит, чтобы не обидеть кого-то. Я… или полностью, или никак.
– Тогда будь осторожна. Такие сердца редко понимают полумеры.
– А ты?
Он вздохнул:
– Я никогда не уйду, если рядом со мной кто-то стал живым.
Они снова замолчали. Её взгляд опустился на их руки, соединённые неуверенно, но крепко. Он не смотрел вниз – только на неё.
Она тихо прошептала:
– Мне кажется, ты сейчас слышишь не только мои слова. А всё, что я не сказала.
– Я стараюсь, – мягко ответил он. – Потому что ты впервые говоришь, и я не хочу проспать это.
И в тот момент она поняла: поцелуй был бы слишком мал для того, что происходило между ними. Они только подошли к границе, за которой начинается другое дыхание. Но пока – лишь тишина, руки, свет фонаря на их щеках.
Мелисса обернулась, глядя в воду:
– Ты знаешь, чего я боюсь больше всего?
Он покачал головой.
– Что я когда-нибудь снова стану сильной… в смысле, в котором это слово меня разрушает.
Он ничего не сказал. Только сжал её пальцы – чуть крепче.
И в этом жесте было обещание. Молчащее. Настоящее.
Глава 7. Искра среди чужого света

Стамбул вечером – не город, а живая фреска. Он пульсирует, дышит сотнями голосов, горит витринами, светофорами, рекламами. Люди текут улицами, как горячий чай из тонкого стакана – чуть прольёшь, и уже обожгло.
Они вышли из старого района – спонтанно, не договариваясь. Просто шли, шаг за шагом, пока не оказались на İstiklal. Улица играла, как музыкальная шкатулка – скрипач у стены, дети с воздушными шарами, кофейни, шумно выдыхающие пар, и чужие разговоры, в которых слышалось слово «aşk» чаще, чем «привет».
Мелисса оглянулась – Гёкхан был рядом. Но толпа была слишком плотной. Он только что держал её за локоть – мягко, направляя, чтобы не потерялась. Но теперь руки их были поодаль.
– Ты не боишься толпы? – спросила она, чуть громче обычного.
– Я боюсь в ней потерять что-то важное, – ответил он, не глядя.
И вдруг – короткое расщепление реальности. Кто-то прошёл между ними. Девочка с розовыми волосами, мужчина с коробкой пахлавы. Чужая музыка. Гудок трамвая. И всё – исчезло.
Мелисса обернулась.
Гёкхана не было.
Она остановилась. Сердце отбивало неправильный ритм. Толпа не замечала её тревоги. Люди шли, говорили, смеялись, продавали лепёшки, цокали каблуками. И никто, кроме неё, не чувствовал, что этот мир вдруг стал на секунду пустым.