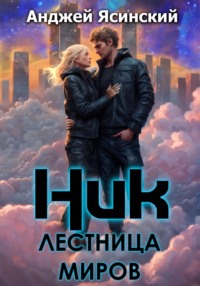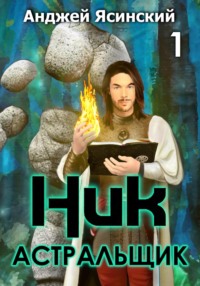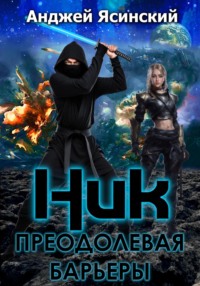Полная версия
Исследователь планет. Том 1
Сергей вынес из трака специальный прибор размером с большой рюкзак и пристегнул его на спину Джина, сейчас для удобства перемещения имеющего форму паука. Проверив надёжность крепления, он хлопнул по хребту ИРОКОМа:
– Точку, где установить прибор, я тебе скинул. Это километрах в пятидесяти вдоль берега.
– Что там? – поддержал разговор искин.
– Мы когда еще летели, СУНИК засек мощный восходящий поток, добивающий вверх предположительно до пары десятков километров, а то и больше. Отсюда мы туда не дотягиваемся, чтобы уточнить, но, судя по косвенным признакам, он там относительно постоянный. А если нет, если он уже пропал, вернешься и тогда пробежишься еще, чтобы найти нужный поток. А я здесь пока попробую – тут в километре тоже есть небольшой, идущий на километр вверх и там растекающийся в стороны. Как раз то, что нужно, чтобы нижний уровень покрыть.
– Вынужден занести в протокол безопасности нарушение. Местность неизвестная, а ты, барин, я уверен, собрался туда пройтись пешком, – паук недовольно переминался на месте. – Ты хоть на траке сгоняй туда, – попросил он.
– Вычислил, черт глазастый, – хмыкнул Сергей. – Не беспокойся, никто тут не водится, кроме мелких хищников да травоядных. Ну и я не беспомощный.
– Это на Земле ты не беспомощный, а тут еще неизвестно, – фыркнул Джин и потрусил в указанное ему место.
Забавно получилось. Нарушение в протокол безопасности вносится на имя начальника экспедиции, которым является сам Сергей. Это еще осталось от первых больших экспедиций, исследовавших первые планеты. Потом всё упростили, подогнали под новые условия, но иногда вот такие смешные казусы в руководящих документах попадаются.
Насвистывая что-то неопределенное, Сергей вернулся к траку, вытащил такой же ящик, что загрузил на Джина, затем подал команду, и в нижней части транспорта появилась щель, из которой наружу выщелкнулась небольшая площадка размером метр на восемьдесят сантиметров и повисла в воздухе. В ней стоял такой же магнитный двигатель, что и на траке, только значительно меньшей грузоподъемности. Но он был намного мощнее летков (леток – техническое устройство в виде специальных сапог, пояса и наручей, позволяющее человеку летать и совершать различные акробатические трюки), способных оперировать только весом человека. Три тонны для такого средства передвижения не было большой проблемой. На крайний случай можно было просто на него усесться и управлять через УНИК, но он все же предназначен для совсем других целей.
Сергей проверил подошвенную часть аппарата, защелкнул на икрах ног крепления летка и поправил эффекторы на локтях. Когда-то в детстве он заработал звание мастера по воздушной акробатике на летках. И хоть звание он больше не подтверждал, но умения никуда не делись. Еще в армии тренировался, только в сторону боевого применения. А может, и тут пригодится.
Сергей подпрыгнул и свечой взмыл на высоту в метров двадцать, закручиваясь по спирали. Сделав пару кульбитов чисто для удовольствия, он приземлился обратно. Улыбка на его лице никак не хотела проходить. Но дальше он пойдет пешком для поддержания физической формы и получения удовольствия. И даже сервоусилители не будет использовать без надобности.
Загрузив на транспорт устройство и снова повесив себе на спину «Стрелы Дьявола», Сергей ненадолго задумался и все-таки взял еще кое-что для ближнего боя, хотя смысла в этом не видел от слова «вообще». Это было что-то вроде высокотехнологического жезла всего с килограмм весом, способного мгновенно раскладываться в посох или же в кнут. Ну, понятно, еще там нож взял, да еще разные мелочи.
Снова начав насвистывать песенку, исследователь развернулся ровно на местный юго-запад, расщелкнул посох, положил его себе на плечи, закинул на него руки и бодрым шагом зашагал вперед. Тележка молча двинулась за ним, объезжая большие камни и перелетая те, что поменьше. А еще в десяти метрах над ними их сопровождал шар размером с кулак, со сферической камерой, снимающей всё в округе в разных диапазонах, и имеющий связь с УНИКом Сергея.
***
Передвижение не вызывало никаких трудностей, а окружающая обстановка была новой и захватывающей, поэтому Сергей с интересом оглядывался по сторонам. Ускорение свободного падения составляло всего лишь на пару десятых больше, чем на Земле, то есть ровно десяточка, что не ощущалось его тренированным организмом и не влияло на его самочувствие.
Трава мягко пружинила под ногами. Она уже была препарирована вплоть до молекулярного уровня, выделены все химические соединения, определены органические энергетические комплексы в клетках, отмаркирована устойчивость к внешним воздействиям, в том числе к земным микроорганизмам, насекомым и, наконец, полезность в качестве кормовой базы для земных животных. Ничего так – олешки из тундры были бы в восторге от такой травушки-муравушки. Это еще вчера Сергей провел обследование. Да и делов-то там было – сунуть пучок травы в камеру да запустить стандартный процесс.
Немного притомившись, больше от однообразного вида летней тундры, если ее можно так назвать, исследователь опустился на землю и лег на живот, положил голову на скрещенные руки и стал рассматривать попавшийся цветок, который будто почувствовал его присутствие и слегка повернул свое соцветие к землянину.
Больше он походил на земную мелкую «Ромашку ободранную» (Matricāria chamomīlla), только с фиолетовыми лепестками. Внезапно соцветие пыхнуло пыльцой, пытаясь зацепить землянина.
– Ну да, ну да… – пробормотал Сергей, дотронувшись пальцем до внешнего энергетического поля, закрывающего лицо, и глядя, как пыльца всасывается в невидимые емкости его скафа для исследования. – Видать, не балуют тебя насекомые, раз ты рада любому живому существу, способному разнести твою пыльцу.
Сергей погладил пальцем цветок. Просто так, радуясь красивому созданию. Ну и выпуская в него исследовательских нанитов. Ну а что? Смешивать приятное с полезным завсегда самое лучшее дело!
Еще немного полюбовавшись цветком, Сергей прилепил к стеблю микроскопический, но мощный передатчик с таким же мелким нанокомпьютером, который и проведет простейшие обследования, и передаст потом результат по связи. Так что возвращаться не нужно будет, чтобы забрать данные.
Тень уходящего исследователя сползла с соцветия, которое будто не хотело терять из вида эдакую странность, никогда ранее не виданную, и повернулось вслед удаляющемуся двуногому существу.
***
Наконец Сергей достиг отмеченной точки и огляделся. Это место особо ничем не отличалось от других, мимо которых он проходил, разве что местность оказалась лишенной растительности и была каменистой. Снова проверив состояние атмосферы, он мысленно указал тележке место, куда ей надо встать, и затем активировал прибор, стоящий на ней.
На приборе отщелкнулась небольшая крышечка, и в небо пшикнуло тестовым набором пятимиллиметровых легчайших шариков-датчиков, способных делать всего несколько, но крайне важных вещей: чувствовать характеристики подавляющего количества энергий, излучений; снимать на встроенную камеру, объективом которой являлась вся поверхность шарика, всё, что попадется на «глаза» во всех возможных диапазонах, что смогли впихнуть в такие размеры, и передавать это всё в эфир, маркируя каждый пакет информации своим уникальным идентификационным номером. На каждые десять таких шариков приходился чуть больший шарик-ретранслятор, который всего лишь ловил все пакеты информации и, усилив их, выдавал обратно в эфир, тоже пометив их своим идентификатором, чтобы повторно не реагировать на них же, перетранслированных другими ретрансляторами. Вообще-то, они были способны даже сформировать своеобразную ячеистую топологию (mesh-сеть), чтобы повысить надежность всей сети передачи данных. Но из-за небольших размеров и мощностей надежность напрямую зависела от их количества.
Больше эти шарики ничего не могли делать, да им и не нужно было. Во время выпуска внутрь им закачивалась строго отмеренная доза смеси газа, обычно на основе гелия, придающая им нулевую плавучесть в атмосфере. Да, на разных высотах при разном давлении эта характеристика будет меняться, но это и не страшно – всё это расходный материал. Основная задача таких датчиков – следовать порывам ветра и транслировать свои данные в эфир. А уже задача СУНИКа в лаборатории трака – разбирать, что эти малютки транслируют, понимать, куда их занесло, и строить карту воздушных течений. Надо просто как можно больше выпустить этих воздушных путешественников – миллионы и миллионы штук. При этом технология тут использовалась высокая, а производство на современных возможностях чуть ли не простейшее – подключить пару баллонов, и встроенный синтезатор на ходу наклепает нужное количество датчиков. Закончится содержимое баллонов, и если датчики еще нужны – нужный материал можно выделить буквально из всего, что можно найти под ногами.
Самое приятное во всем этом то, что материал датчиков совершенно безвреден и, утилизируясь со временем, превращается в нейтрально связанные неактивные вещества.
А вообще привязка к поверхности в отсутствие спутниковой навигации осуществлялась через использование силовых линий геомагнитного поля. Причем для грубой ориентации использовалось главное геомагнитное поле, создаваемое ядром планеты. Более точная ориентация в рамках общей – посредством аномального геомагнитного поля, создаваемого намагниченными породами литосферы. Внешнее геомагнитное поле, формируемое во время звездно-планетарных взаимодействий, для этих целей практически не использовалось, как короткопериодное, быстро меняющееся. Хотя все-таки изменения тут были относительно быстрыми – в течение местного полугода, так что частично привязки можно было использовать. Вообще-то самый первый ИРОКОМ, который делал первую поверхностную съемку планеты, также создавал и виртуальную модель геомагнитного поля планеты, так как уж очень много современных технологических примочек было завязано на него – как на источник дармовой энергии в первую очередь. Кроме того, геомагнитное поле планеты – это фактически ее аура с примерно теми же свойствами, что имеют ауры живых существ. Конечно, не в прямом смысле, а скорее в философском, метафизическом.
Вклад главного геомагнитного поля здесь составлял девяносто семь процентов, в отличие от земных девяносто пяти. Аномального – один процент, а внешнего – два процента. И это было странно, так как на Земле последние два показателя имеют обратное отношение – аномального три процента и внешнего всего два. То есть тут внешнее геомагнитное поле больше аномального. Возможно, конечно, это связано с солнечной активностью, но все же странновато. У других найденных планет земного типа это соотношение было похожим на земное. Тут была еще одна странность – аномальное поле было несколько искаженным и немного не соответствовало реальной картине распределения различных материалов в литосфере. Впрочем, для того и будет крутиться спутник, чтобы уточнить все это в числе остальных задач. Все-таки первичное исследование оно такое… Поверхностное…
Проверив, что тестовый набор датчиков заработал нормально и под слабым потоком воздуха стал подниматься вверх, Сергей запустил основной процесс, который должен продлиться около часа, а сам уселся рядом и решил помедитировать – место больно соответствовало этому своей аурой спокойствия. Надо попытаться почувствовать эту планету и договориться с нею о взаимном сотрудничестве. Или, как минимум, о взаимоуважении. Такое у него прокатило всего один раз, да и то не на Земле, а на Версалии, уж почему так – он не понял. Тогда ощущения были непередаваемыми, и он хотел снова повторить этот опыт. Может, здесь, на незаселенной планете, всё будет проще?
***
– Однако! – произнес землянин, через час вывалившись из транса.
Глава 2
Сергей
Сергей, конечно, не ожидал, что здесь будет так же, как на Земле, но не настолько же! На родной планете его попытки подключиться к информационному полю планеты выглядели примерно так: в какой-то момент медитации он начинал слышать шорох накатывающихся волн. Когда он пытался забежать в волну, она от него откатывалась, не давая прикоснуться к себе. И вот так он бегал без толку по сухому месту, а вокруг него вздымались волны, которые ускользали от контакта с ним с грацией тореадора.
На Версалии же вхождение в информационное поле напоминало бормотание миллиардов живых существ в пустом зале. Порой некоторые голоса выделялись из общего фона, говоря что-то непонятное с неопределенным выражением, а потом прятались в общем фоне, чем-то снова напоминая те же самые волны, только состоящие из голосов. И вот однажды, если так можно выразиться, его «увидел» один из голосов и приблизился. Этот голос, несмотря на то, что имел псевдозвуковую форму выражения, каким-то образом умудрялся сверкать гранями своей строгой математической формы, пуская световые зайчики в воображаемый слуховой нерв землянина. Звучит странно, но по-другому объяснить синтез звука и изображения у него не получалось. Тогда у него и состоялся странный разговор-обмен мыслями с этим существом. Жаль, что из этого разговора Сергей ничего не помнил. Осталось только вот это понятие – «странный разговор», тянущее за собой острое любопытство, недоумение и обиду, что ничего нельзя вспомнить. Последующие попытки подключиться ни к чему не привели.
Здесь же состояние информационного поля или его преддверие можно было бы охарактеризовать одним словом – вата. Влажная вата, которую налепили на мозг. Не пропускающая ничего. Тишина… Мертвая… Или все-таки не мертвая, а затаившаяся? М-да… Сергей все-таки ожидал хоть какого-то движения. Впрочем, чего еще ожидать от необитаемой планеты? А этого, то есть как оно выглядит на планетах, где не ступала нога человека, он не знал.
***
Вздохнув, Сергей, не открывая глаз, вывел на внутренний экран УНИКа состояние работ прибора по исследованию воздушных масс. Как раз минуту назад тот произвел запуск десятитысячного датчика и остановился. Перейдя в режим визуализации их работы, он с удовольствием увидел сложную трехмерную картинку восходящих воздушных потоков, формируемую на основе данных только что запущенных датчиков. Ну вот, теперь осталось поддерживать их количество примерно на одном уровне, пока роза ветров не изменится, и очередной бит информации сорвет небольшой кусочек покрывала неизвестности с этой планеты.
Сергей гибко встал на ноги и подошел к прибору. Раскрыл его и вытащил изнутри один из десятков находящихся внутри мини-синтезаторов. Затем достал что-то вроде карандаша и отдельно небольшой раструб. «Карандаш» он воткнул в землю и наступил на него всем весом, загоняя в почву по самую маковку. Дождался, пока он удлинится примерно на метр, вгрызаясь в землю. Сняв ногу, Сергей прищелкнул синтезатор к верхней части «карандаша»-зонда, являющейся и фиксатором, и в то же время поставщиком некоторых веществ, необходимых для создания нужных материалов, если вдруг в синтезаторе закончится строительная паста, а программа будет требовать продолжения работы. В синтезатор сверху воткнул раструб, а сбоку небольшой баллон с пастой. Прогнал тестовую программу и запустил его. Через минуту в небо из раструба стали выскакивать точно такие же датчики, что были и раньше, только значительно реже.
Отряхнув руки, Сергей закрыл основной прибор и, насвистывая, пошёл по направлению к траку, двигаясь перпендикулярно дороге. Теперь ему предстояло покинуть зону повышенной активности воздушных масс и включить другие приборы.
Местность сильно не менялась: всё та же трава, перемежаемая цветками и небольшими деревцами, да камни. Сергей у них уже почти не останавливался, а просто расстреливал их издалека из заплечных автоматов еще одним типом исследовательских приборов – трехмиллиметровыми вязкими и липкими шариками, представляющими из себя колонии нанороботов с управляющим вычислительным контуром, контрольно-измерительным оборудованием и передатчиком. Нанороботам было все равно, что исследовать – растения ли, камни ли… Они проникали в любой объект и выдавали полную картинку его состава, структуры и энергетики. А вот на животных такие датчики применять было бессмысленно – слишком это сложные объекты для исследования, да еще и вред им можно нанести. Но для них есть свои заготовки. Сергей глянул на точки и палочки в небе, изображающие пернатых. Ничего, и до вас дойдет дело!
Сергей неторопливо шагал по дорожке, щурясь на солнце, и его лицо озаряла улыбка. Он был погружён в свои мысли, сопровождаемый тихими звуками поступающих данных. Если на пути встречались невысокие деревца, обычно не выше человеческого роста, он останавливался и нежно гладил их, пытаясь ощутить их фактуру сквозь защитный материал. Или с любопытством рассматривал на солнце просвечивающую структуру их листьев, удивляясь, как природа, несмотря на всё своё многообразие, умудряется придерживаться определённых схем, которые так похожи на разных планетах.
***
Следующий тип датчиков предназначался для создания высокоточных и детализированных карт местности. Эти датчики обычно использовались в качестве дополнения к спутниковым снимкам, так как обладали максимально возможным разрешением. Они были похожи на воздушные датчики, но не зависели от воздушных потоков, которые, наоборот, мешали их работе. Однако, несмотря на свою низкую стоимость и безопасность для окружающей среды, эти датчики стали неотъемлемой частью даже на Земле, где спутники, казалось бы, охватывают каждый сантиметр поверхности.
Даже если какое-то животное польстится на их вид и съест, то для земных животных и еще некоторых инопланетных, на которых производились эксперименты, это не приведет к фатальным последствиям. Они просто без всякого вреда разложатся в желудке животных, а обычно это птицы и их родственники. За это отвечал специальный комплекс нанитов. Вообще, можно было сделать и так, что они были бы даже питательными, но тогда они стали бы желанным кормом для таких животных, и ни о какой нормальной работе речь бы не шла. Однако от идеи вызывать раздражение у животных при их поедании, чтобы те не ловили странных насекомых, отказались. У каждого животного свои рецепторы и особенности желудочно-кишечного тракта, и реализация такой идеи была бы слишком сложной, особенно для неизвестных видов на новой планете, где планировалось использовать эти датчики.
Вид они имели небольших многогранных пластинок, очень похожих на картон, с утолщением в центре. Нижняя часть – призматическая оптическая матрица, верхняя – солнечная батарея, внутри специальное напыление из легко собираемых в синтезаторах кристаллов, способных аккумулировать в себе достаточное количество энергии, чтобы еще питать расположенный в центре конструкции крошечный вентилятор, способный менять вектор тяги. Фактически они представляли собой микродроны с контрольно-измерительным микрооборудованием (КИМО) на борту.
У подобных дронов было еще несколько дополнительных преимуществ перед теми же датчиками розы ветров: они самостоятельно могли держаться в стае, как птицы или косяки рыб, и были управляемыми. То есть такой стае можно было задать внешнюю команду на обзор определенной территории. А дальше они передавали всю информацию любому потребителю, напрямую или через сеть ретрансляторов. Это смотря как уже будет организована сеть. Но даже при отсутствии получателей они продолжали контролировать выделенную им территорию, периодически пополняя выбывших членов «стаи» через стационарные синтезаторы, являясь в то же время своеобразной точкой привязки. Стандартно радиус действия таких стай составлял около пятидесяти километров. Однако его можно было регулировать или даже полностью отключить, что означало отправку «летающих солдат» в опасное путешествие без возможности возвращения, пока не выйдет из строя последний из них.
Процесс синтеза такого аппарата занимал гораздо больше времени – около двадцати секунд, а для формирования полноценной стаи требовалось довольно много времени. Поэтому Сергей решил не дожидаться первых тестовых запусков. Он сразу же настроил стационарный синтезаторный модуль, который, кстати, также собирался большим синтезатором в траке, поскольку не было смысла создавать их в огромных количествах для всей планеты. И отправился в путь. В случае возникновения проблем он всегда мог вернуться.
***
Невидимая тень, сливающаяся с растительностью, медленно и аккуратно переползла под крону небольшого дерева и замерла. Ее возбуждение не выдавало даже движение хвоста – наоборот, он вытянулся стрелой и замер в готовности поддержать хоть и небольшое, но мощное и поджарое тело в прыжке. Молодой представитель хищной фауны – ррыс, чем-то отдаленно напоминающий земных рысей, был уже достаточно опытен, чтобы не бросаться сломя голову на любую движущуюся цель, но в то же время достаточно самонадеян, чтобы попытать счастья с совершенно неизвестным противником.
Это ходящее на задних лапах существо при всем желании не напоминало быстрых и ловких рогатых травоядных олней – обычной пищи хищников в этой местности, но двигалось и выглядело как вставший на задние лапы брр. Да и запаха от него не было никакого, что было странно, но… Может, это новый вид брр? Молодой ррыс не стал бы связываться, только он уже пару дней ничего не ел – олни перебрались на соседнюю территорию, куда он пока не хотел соваться – недавно ему там надрали холку, и царапины еще болели. А брр хоть и были опасными противниками, но при удаче и их можно было победить. Так что он все-таки решился, и когда беспечное существо проходило мимо дерева, под которым прятался ррыс, он в быстром и длинном прыжке вытянулся в воздухе.
***
В воздухе мелькнула стремительная тень, летящая к Сергею. Но на полпути перед ней внезапно развернулась чёрная сеть, мгновенно окутав фигуру хищника. Сеть немного сжалась, надёжно сковав его движения. Тяжелый, шипящий и подвывающий комок шерсти катался по земле, пытаясь вырваться из ловушки.
Сергей слегка размял кисть руки, которой и бросил небольшой шарик-ловушку, содержащий в себе прочнейшую сеть из полимерных мононитей и управляющий модуль с КИМО. Двигатель самонаведения ловушки только чуть-чуть подработал, чтобы точно накрыть цель.
Не подходя к пойманному зверю, он некоторое время издалека смотрел на него, отслеживая поведение животного. Сквозь нити сети из кувыркающегося шерстяного кома часто сверкали глаза хищника, смотрящие на него. И в них отражались лишь отчаяние и ярость.
– Красивый кошак, – пробормотал Сергей, но подходить не стал. – А я ведь в самый последний момент среагировал. Мог и не успеть. "Непозволительно расслабился. Надо все-таки быть более осторожным", —подумал про себя, подключая к правому стволу дополнительный модуль, расположенный горизонтально на уровне поясницы, в котором находилось еще пяток таких же ловушек. Подергал ствол туда-сюда, спрятал-выпростал из-за спины. На четыре сотых секунды время наведения на цель увеличилось. Ничего, не страшно.
Да, хищника давно срисовал летающий над головой дрон-стражник. Причем, что удивительно, в тепловом режиме животного почти не было видно. Внимание же дрона привлекло перетекание травы против ветра, а потом уже и остальные модули сканирования и анализа подключились. Поэтому Сергей и пошел в эту сторону, немного сменив первоначальное направление, чтобы спровоцировать и облегчить хищнику охоту на себя.
Лишь удостоверившись, что КИМО, предназначенное как раз для обследования животных, заработало, он повернулся и пошел дальше. Сейчас более «умное» оборудование, чем то, что он до сих пор использовал, определится с программой обследования, возьмет необходимые анализы, дабы выработать безвредный метод погружения существа в сон, и приступит к расширенному анализу организма уже с помощью нанитов. Наука Земли достаточно хорошо проработала методы исследования новых земель и щедро снабжала исследователей нужной аппаратной базой.
***
Вскоре Сергей исследовал уже значительную часть территории. Он много ходил пешком и иногда использовал летки, чтобы преодолеть препятствия или оказаться в более интересных местах. А иногда он просто бежал, используя как возможности экзоскелета, так и свои собственные мышцы.
Рой же летающих дронов планомерно расширял исследованное пространство на карте, выдавая довольно неплохие результаты. В принципе, с этим могли быть и проблемы из-за какой-нибудь нестандартной искажающей способности воздуха, в зависимости от влажности, птиц, ветра. Но результат оказался неплохим. Потери дронов составляли порядка одного процента в сутки, и оставленный без прямого присмотра синтезатор вполне справлялся с пополнением популяции, а вновь созданные аппараты по мере производства отправлялись в определенные точки встречи с основной стаей. Всем этим удаленно управлял СУНИК ИС-ки.
Сергей с удовольствием погрузился в свою работу, которая порой казалась скучной и монотонной. Однако в целом ему всё нравилось. Благодаря тому, что многие процессы были автоматизированы, у него оставалось много свободного времени, которое он мог посвятить себе или тому, что было ему действительно интересно. Конечно, можно было бы работать быстрее, если бы Сергей использовал Джина – БРОКОМ, который мог выполнять все те же действия, что и он. Однако у Джина были свои задачи, в основном связанные с безопасностью исследователя. Без крайней необходимости БРОКОМ не удалялся от Сергея на большие расстояния или на длительное время. Несмотря на это, у Джина оставались военные алгоритмы, которые несколько отличали его поведение от чисто исследовательских БРОКОМов. Он полностью подчинялся своему хозяину, к которому был приписан. Хотя Сергей иногда и пользовался этой дополнительной свободой, он предпочитал, чтобы у Джина на первом плане работали исследовательские алгоритмы, которые были наиболее подходящими в текущей ситуации.