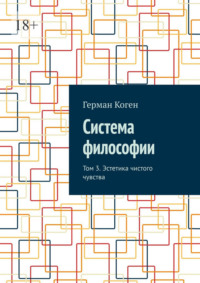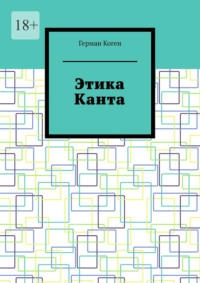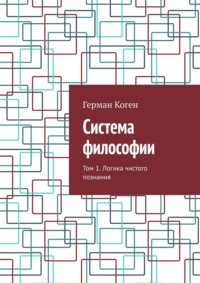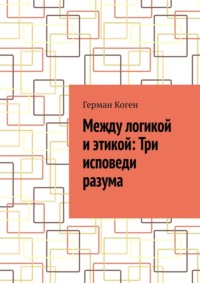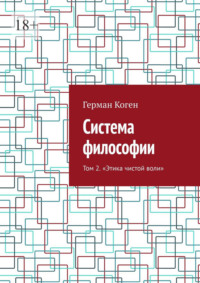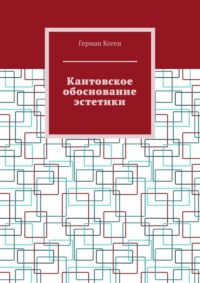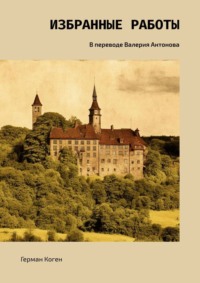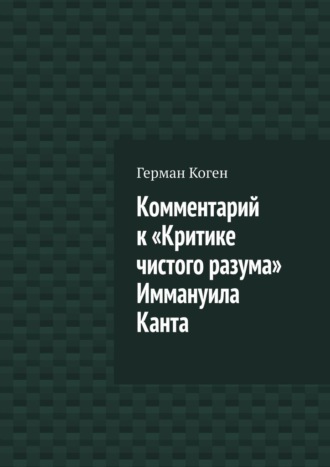
Полная версия
Комментарий к «Критике чистого разума» Иммануила Канта
Коген подчёркивает, что физико-теологическое доказательство бытия Бога, основанное на наблюдаемой целесообразности природы, неизбежно переходит в космологическое, а затем в онтологическое, но все они сталкиваются с невозможностью выйти за пределы субъективных условий мышления. Кант отвергает спекулятивную теологию, но сохраняет её практический аспект: моральная теология, основанная на нравственных законах, становится единственным легитимным путём к постулированию высшего существа. Здесь Коген усматривает поворот к этическому обоснованию метафизики, что позже разовьёт марбургская школа неокантианства, перенося акцент с теоретического на практический разум.
Особую роль в комментарии Когена играет анализ «как если бы» (als ob), который раскрывает методологическую природу идей. Душа, мир и Бог – это не объекты, а «фокусы воображения» (focus imaginarius), направляющие познание к систематическому единству. Например, идея Бога позволяет рассматривать природу так, как если бы она была создана разумным существом, но это не означает признания его реальности. Этот подход предвосхищает современные дискуссии о моделях и идеализациях в науке, где гипотетические конструкции (типа «идеального газа») служат инструментами познания, не требуя онтологического обоснования.
Коген также обращает внимание на антиномии космологического разума, где диалектика возникает из попыток мыслить мир как завершённое целое. Современная космология, сталкиваясь с проблемами бесконечности Вселенной или квантовой неопределённости, по сути, воспроизводит кантовские парадоксы, демонстрируя границы человеческого понимания.
Антонов В. А.
Предисловие
Если предисловию надлежит сказать то, чего нет в самой книге, то моей задачей могло бы стать описание идеала комментария к «Критике чистого разума». Однако, когда мне предложили написать этот комментарий, одновременно было поставлено условие краткости. И я признаюсь, что без этого руководящего принципа – brevitas virtus est («краткость – добродетель») – я не взялся бы за эту работу, хотя мысль о ней была мне дорога с самых первых шагов моих занятий Кантом и оставалась таковой.
Ведь научные требования к комментарию этого произведения настолько глубоко связаны с философией и её историей, что вряд ли даже самый удачный такт смог бы здесь обеспечить ясность расположения материала, его ограничение и обозримость. Как проблемы, понятия, мысли в их замысле и формулировке связаны с идеями предшественников, насколько они были известны автору, что он заимствовал у других или что возразил им под влиянием не менее значительных импульсов – всё это должен был бы раскрыть и доказать идеальный комментарий. При этом он неизбежно должен был бы на каждом шагу открывать предметное обсуждение общих проблем, а это, в свою очередь, вело бы его от прошлого до Канта – к эпохе после Канта и вплоть до современности. Видно, что комментарий в таком предметном и историческом охвате, пожалуй, следовало бы оставить самой философии и её истории. К тому же, эта история для основных вопросов познания находится в связи с историей математики и физики. Таким образом, трудности становятся всё более устрашающими, и только условие краткости избавляет нас от них.
Я не могу умолчать о более личном отношении к этой задаче. Как известно, мировая философская литература насчитывает мало произведений, которые по характеру своей классичности могли бы сравниться с «Критикой чистого разума». Но классичность имеет свой источник в индивидуальности. Эта книга – учение и исповедание гения. Почти в каждом разделе, на каждой странице говорит человек, который хочет учить и обращать человечество; основательность и осторожность его исследования, надеюсь, не противоречат этому самосознанию своей задачи. Если хочешь объяснить такую книгу, недостаточно быть знакомым с её взглядами через буквальный смысл понятий и их связей; нужно, скорее, как бы проникнуть в личную контрапунктику этих мыслей и овладеть ею. Но самое сокровенное в этих мотивах и их разработке можно понять, только если сам хочешь приобщиться к его духу и утвердиться в нём. Кто не принимает методические установления Канта об основных направлениях человеческой культуры, то есть его трансцендентальный метод, кто не признаёт его, как сказал Шиллер, «непоколебимым основанием» культуры, – тот должен отказаться от труда истолкователя.
Поэтому в это время, когда поток изданий сочинений Канта, книг и статей, трактующих и оценивающих его, достиг своего пика, для меня было и радостью, и честью вновь посвятить свою работу этому вечному основополагающему труду. И как раз условие краткости могло бы стать программно важным моментом.
У многих, кто со свежим умом приступает к изучению философии, возможно, есть духовная и душевная предрасположенность к Канту, но разрыв с литературным стилем, к которому они привыкли, затрудняет сосредоточение на этой манере письма и требуемой для неё дисциплины чтения. Как учитель критической философии, я должен был откликнуться на этот зов. Пусть же юный странник доверчиво вручит себя старому проводнику. В высокогорье проводник должен быть страстным любителем своего ландшафта.
Предметные соображения объективности при этом не были упущены из виду, равно как и соображения сдержанной критики. Но, конечно, здесь руководящей является мысль, что в этой книге властвует единый дух, а отнюдь не дуалистические колебания и поиски окольных путей, уводящих от великого ориентира. Подобные слабости эклектики – удел умов меньшего калибра. Поэтому я стремился, насколько возможно, разъяснить отдельные места, чтобы не оставлять читателя на произвол судьбы, а, напротив, побудить его к точности чтения и вдумчивости. Но в каждом подлинном произведении искусства частное можно понять только исходя из целого и из тех развёртываний, в которых оно снова и снова предстаёт в новом виде. Поэтому я должен был стремиться сделать ход изложения прозрачным в его основных этапах. И, продолжая сравнение с прогулкой, нужно было позаботиться о том, чтобы взгляд на цель пути и перспектива больших исторических магистралей, с которыми этот путь соприкасается и местами переплетается, оставались свободными и ясными. Таким образом, ведущие мысли должны были быть сжаты, а поучительные мотивы, повторяющиеся в многообразных вариациях, – вновь и вновь подчёркиваться, даже если при этом нужно было учитывать новизну их видоизменений.
При этом вновь стало необходимым ограничение. Нужно пояснять «Критику чистого разума», а не развивать систему Канта. Лишь в той мере, в какой это полезно для понимания одной этой книги, следует обращать взгляд на другие произведения Канта, и только в виде указаний, а не доказательств. Читатель должен быть ориентирован, но не отвлекаем. Поэтому я зашёл так далеко в ограничении, что избегал цитат из других работ Канта. Тем охотнее я мог отказаться от обращения к другим авторам, писавшим о Канте, и точно так же не ссылался на свои собственные книги.
Напротив, я поставил себе задачей собрать из всех частей этого произведения извлечения, как бы для хрестоматии. И я могу надеяться, что тот, кто по-настоящему понимает, не обвинит меня в пристрастности. Конечно, я признаю вместе с вождями нашего классического века ясность, однозначность, самостоятельность и суверенность научного разума как дыхание подлинного немецкого идеализма. Поэтому методологический априоризм образует основную линию во всех широкоохватных, но четко проведенных очертаниях того откровенного, чистосердечного, в своей общительности не знавшего удержу кантовского стиля.
Но уже это экспекторативное1 стремление поддерживает добросовестность в распределении света и тени при оценке противоположных взглядов. Отсюда же и скрупулёзная, фундаментальная честность в определении доли, принадлежащей каждой догматической системе мышления в продвижении истины, даже если она подчас выражается лишь в вздохах, противоречащих собственным основным настроениям.
Таким образом, этот сборник должен также положить границы инквизиторским преследованиям той философии, которую Кант, как его подлинное мнение, скорее скрывал, нежели раскрывал, и, возможно, наконец лишить их терпения.
Может показаться, будто этим пожеланием пролог уже выходит за свои рамки. Однако безусловно необходимо, чтобы читатель проникся мыслью, что «Критика чистого разума» в силу своих основополагающих принципов есть критика чистой науки.
Пробуждению и поддержанию этого научного первоначального смысла философии и этого философского первоначального смысла науки призван прежде всего содействовать данный комментарий, дабы философия могла собрать и объединить всех своих учеников под знаменем своего единого вопроса, который во все времена составляет принципы научного познания.
Марбург, 3 февраля 1907.
Герман Коген.
Предисловие к I изданию (стр. 13—21)
говорит о «судьбе» «метафизики». Из деспотии «догматиков» она попала в «анархию» «скептиков», а от этих «кочевников» – к мнимому концу благодаря «физиологии разума» Локка. Но эта ложная «генеалогия» вновь привела к «догматизму» и к «индифферентизму, этой матери хаоса и ночи в науках», одновременно став «прелюдией» «Просвещения». Последнее пробуждает «самопознание»; этот «суд» – «Критика чистого разума». С историческим сознанием автор говорит об этом своем труде: об «устранении всех заблуждений», о «полной спецификации согласно принципам», о «подробности» в «решении» «метафизических задач» или о «ключе» к их решению; причем не с помощью «волшебных трюков», как в «программе» о «простой природе души» или о «первом начале мира». Также он определяет «достоверность и ясность». «Гипотеза» здесь была бы «запретным товаром». Он устанавливает «дедукцию чистых рассудочных понятий», важность которой оценивает исторически, и различает «объективную» и «субъективную дедукцию»; последняя «не является существенной». В качестве цели «ясности» он ставит «обозрение целого» и «структуру системы». Метафизику следует довести до завершения, «так чтобы потомкам не осталось ничего». Такая «система» предвосхищается как «метафизика природы». Не остается никаких сомнений в самосознании автора относительно места своего труда в истории метафизики.
Предисловие ко II изданию (стр. 22—46)
выдержано в совершенно ином тоне. В первом предисловии автор говорил как автор; здесь же он сам становится читателем. Поэтому оно содержит самостоятельное содержательное наполнение и демонстрирует значительный методологический прогресс. Ведь автор должен был развиться сам, чтобы стать читателем своего произведения. Это предисловие – идеал предисловия. (Его, возможно, можно сравнить с посвящением к «Фаусту» или же с великой аллегорией восхода солнца в начале второй части.) И подобно тому как там «жизнь» основывается на «цветной игре отражений», так здесь содержание этого труда и в нем судьба метафизики связываются с методом и аналогией с методологией математики и физики. «Верный путь науки» – это основная тема. На этом строится ориентация понятия метафизики: у нее есть «первая» и «вторая часть» (стр. 30, строка 13). Первая часть касается «природы как совокупности объектов опыта». Поэтому она опирается на «математику и физику» (стр. 24, строка 13). Они являются «подлинными и объективно так называемыми науками» (стр. 23, строка 35). Их содержание формирует сущность познания; понятие познания должно быть выведено из понятия науки, которую они осуществляют.
И теперь предисловие раскрывает это понятие науки через ее методологию и историю с поразительной ясностью, какой само книга не достигла в своем обзоре. Упоминается «удивительный народ греков» в отличие от египтян: «революция в образе мышления» привела к «верному пути науки». [«Первый, кто доказал теорему о равнобедренном треугольнике, увидел свет»: не «то, что он видел в фигуре», а то, что он «в нее вложил в мысли и представил», породило науку (стр. 25, строки 10—20)]. Через это вложение, вдумывание и представление путем конструирования здесь априори описывается основополагающий методологический принцип. И через эти классические примеры из истории физики он точно определяется и поясняется: на опыте Галилея с шарами на «наклонной плоскости с выбранной им самим тяжестью», на Торричелли и Штале: «так всем естествоиспытателям открылся свет. Они поняли, что разум постигает лишь то, что сам создает по своему замыслу». «Разум должен идти к природе с принципами в одной руке и с экспериментом – в другой» (стр. 26).
Это раскрытие глубочайшей методологии, которая привела математику и физику к науке и ее исторически высшему пути, само по себе уже является достижением метафизики; это обозначенная первая ее часть. Новый раздел начинается со стр. 27, где метафизика определяется как «совершенно изолированное спекулятивное познание разума». Это делается, чтобы преодолеть изоляцию. Верный путь науки здесь не может быть «невозможным»; против этого говорит «природа нашего разума». До сих пор он мог лишь «ошибаться». «Примеры математики и естествознания» должны и здесь привести к «изменению образа мышления». Теперь следует ссылка на Коперника. Он «оставил звезды в покое», «зато заставил наблюдателя вращаться». Это вращение соответствует тому, что ранее было обозначено как вложение. При вращении объект не остается неподвижным; он вступает в отношение к вращению. Так же и объект не является замкнутым и, как говорят, «данным», если он, напротив, только через вдумывание и вложение может быть приведен к познанию и открытию. Однако пример с вращением, возможно, действует еще убедительнее, чем другие – с конструированием и с помощью «принципов». Ведь звезды, казалось бы, в большей степени обладают характером объектов, чем треугольник и наклонная плоскость движения падения; и тем не менее только вращение наблюдателя порождает познание звезд. Поэтому здесь «измененный метод мышления» формулируется с полной определенностью: либо «все наше познание должно сообразовываться с объектами», либо «объекты должны сообразовываться с нашим познанием» (стр. 28, строка 8). В первом случае априорное понятие становится несостоятельным; «тогда я не понимаю, как можно что-то знать a priori…». Мы можем «познавать о вещах a priori только то, что сами в них вкладываем» (стр. 29, строка 22). Таким образом, если объекты должны сообразовываться с понятиями, с вложением, с вращением, с познанием, то возникает непосредственная корреляция между объектом и познанием. Не может быть объекта самого по себе; только познание, акт вложения, порождает объект.
Можно сказать, что этот взгляд на познание и его продуктивное отношение к объекту слишком односторонен: он противоречит смыслу опыта. Познание, конечно, может действовать столь самостоятельно, но тем не менее ценность опыта остается, которой должны были подчиняться и Галилей, и Коперник. Однако, хотя этот смысл опыта как самостоятельного источника не отвергается полностью, здесь он не должен быть принят во внимание. Напротив, здесь важно обосновать понятие опыта на познании и приравнять его к нему, а не связывать его с собиранием и развитием знаний, в чем обычно понимается значение опыта. Это выражается в утверждениях: «опыт, в котором они (как данные объекты) познаются», и «поскольку сам опыт есть способ познания», который предполагает априори (стр. 29, строка 5). Таким образом, первая часть метафизики становится метафизикой математики и физики, а следовательно, метафизикой опыта.
Теперь можно определить и вторую часть метафизики. Первая часть имеет своим содержанием природу или опыт; вторая часть стремится «выйти за пределы возможного опыта» (стр. 30, строка 18). То, что движет ею, – это понятие, лежащее в основе всей второй части «Критики», диалектики: понятие «безусловного». Нам пока не нужно его понимать; нам лишь следует уяснить его связь с проблемой объекта, познания, опыта. Подобно тому как вещь самостоятельно противостоит познанию, как если бы она была дана в так называемом опыте независимо от него, так и безусловная вещь, так называемое абсолютное, как душа и Бог, окружены ореолом, будто они существуют и обоснованы независимо от нашего познания, поскольку они действительно лежат за пределами опыта. Этой проблеме посвящена вторая часть предисловия. И в ней должно заключаться испытание для примера первой части. Первая часть метафизики должна придать второй части, для которой до сих пор не было никакой уверенности, никакого «единодушия», возможность таковой и тем самым возможность метафизики «как науки».
Здесь сразу возникает сложная пара понятий: «явление» и «вещь в себе». Это фундаментальное понятийное соотношение мы также не будем сейчас разъяснять; нам лишь нужно уяснить для ориентации, что «измененный метод», согласно которому здесь определяется априорное познание, должен подтвердить эту вторую часть метафизики, то есть возможность познания того «безусловного». И в чем же состоит эта возможность? В том, что на место теоретического познания ставится практическое. «Теперь нам остается еще, после того как спекулятивному разуму отказано во всяком продвижении в этой области сверхчувственного, попытаться, не найдутся ли в его практическом познании данные для определения того трансцендентного понятия разума о безусловном, и таким образом, согласно желанию метафизики, выйти за пределы всякого возможного опыта с нашим априорным познанием, возможным, однако, лишь в практическом отношении» (стр. 31, строка 4). Таким образом, мы получаем здесь ясную ориентацию, что в качестве второй части метафизики должна выступить этика.
И теперь мы можем также предварительно познакомиться с теми сложными систематическими понятиями, поскольку это позволяет методология первой части метафизики. То, что здесь выступает как «вещь в себе», соответствует объекту, который представляется данным и существующим без нашего вмешательства, без «поворота»; на его месте там окажется «явление». Но поскольку для проблем этики явления непригодны, так как в них речь идет не об объектах природы в конечном смысле, то необходимо ухватить иное понятие вещи в себе, если познание как этика, в отличие от познания опыта, вообще должно стать возможным. Этой другой проблемой познания занимается вся вторая часть данного предисловия, и она неоднократно обозначается как «эксперимент контропроверки», что различение первой части между «явлением» и «вещью в себе» теперь столь успешно подтверждается. Однако необходимо заметить, что эта вторая часть отнюдь не предлагает дополнения или обоснования для первой части: вещь в себе здесь не приносит никакого подтверждения или удостоверения, скажем, для опыта как науки, для реализации природы; но лишь и исключительно для другого вида познания, а именно для «практического применения чистого разума (морального)» (стр. 33, строка 36).
Правда, здесь встречается утверждение, что «было бы нелепо», «чтобы явление было без того, что является» (стр. 34 и далее). Однако это в равной мере относится и к человеку как объекту души и свободы, и к Богу, поскольку он имеет к миру некое каузальное отношение. И потому даже из этого, вовсе не эзотерического, утверждения не возникает сомнения, что контропроверка служит второй части метафизики только как этика. Можно было бы еще подумать, что эта польза останется «лишь негативной»; однако «расширение», которым метафизика обычно гордится, есть скорее «сужение» (стр. 33, строка 25); возможность же этики, напротив, есть важная позитивная польза, которая не ослабляется тем, что для нее должен быть проведен различие между «познанием» и «мышлением» (стр. 35, строка 35). «Таким образом, учение о нравственности сохраняет свое место, и учение о природе – тоже свое» (стр. 36, строка 23). Расширение есть, таким образом, на деле «практическое расширение чистого разума» (стр. 37, строка 4).
В этой связи стоит утверждение: «Мне пришлось ограничить знание, чтобы освободить место вере». Устраненное знание касается «вещей в себе» познания опыта; вера же – практического, морального познания, которое как раз не является математически-естественнонаучным познанием опыта и потому также не может быть познанием Бога и души как субстанций с их свойствами. Эта вера есть «разумная вера», как ее определяет и разъясняет «Методология» (стр. 677—685).
Особенно важно, что здесь встречается также выражение, в котором, как мы увидим позже, совершается методическое разрешение «вещи в себе»: термин «задача» (стр. 32, строка 14). На место якобы данных вещей становятся задачи. Такой задачей может стать душа. Таким образом, я не могу познать душу, но тем не менее могу мыслить ее троичность (стр. 35, строка 30). И это мышление обладает не только компетенцией непротиворечивой возможности, но «для этого требуется нечто большее. Однако это большее не обязательно искать в теоретических источниках познания, оно может лежать и в практических» (стр. 34, конец примечания).
Остальное содержание предисловия, включая обращение к «молодежи», к «правительству», к «школам», а также к «самому почтенному для нас множеству» (стр. 39, строка 2), мы можем опустить. Примечание, касающееся «скандала» идеализма, будет рассмотрено в соответствующем месте. Лишь историческое суждение стоит выделить: что Вольфа он называет «величайшим из всех догматических философов» и «родоначальником еще не угасшего в Германии духа основательности» (стр. 40, строка 38). Этому строгому методу хочет следовать и Кант «для содействия основательной метафизике как науке». «Критика» должна быть для этого «трактатом о методе» (стр. 32, строка 6) как предшественник.
Введение
во втором издании изменено. Начало первого стилистически примечательно: «Опыт без сомнения есть первое произведение» и т. д. Напоминает проповедника, который начал свою проповедь словом «но». Как будто чтобы предотвратить недоразумения и предубеждения, «Критика» начинается, подобно монологу, со слов «без сомнения». Кажется, будто автор прежде всего хочет договориться с читателем о понятии, о слове «опыт». Только не думайте, что я хочу спекулировать против опыта; я не хочу подвергать его сомнению. Но это слово, это понятие содержит новую проблему. Оно есть «первое наставление», но «далеко не единственная область, в которой наш разум позволяет себя ограничить» (стр. 51, примечание). Оно не содержит «необходимости», ни «всеобщности»; познания такого рода должны быть «ясными и достоверными; их поэтому называют познаниями a priori». Видно, что проблема здесь сразу разворачивается во всей своей унаследованной многозначности; при этом предикаты «необходимости» и «всеобщности» смешиваются с предикатами «ясности» и «достоверности»: равнозначны ли они для понятия a priori? Далее в тексте говорится: «теперь оказывается, что чрезвычайно примечательно: даже среди наших опытов встречаются познания, которые должны иметь свое происхождение a priori». Почему должны? Может быть, дело в новом понятии «происхождения»? Обоснование действительно идет в этом направлении: остаются «первоначальные понятия, которые должны были возникнуть совершенно a priori, независимо от опыта», потому что они «содержат истинную всеобщность и строгую необходимость». Все еще неточные, мимические выражения: совершенно независимо, истинная, строгая. Переработка была необходима.
Сначала она заметно улучшается в заголовках. Однако интересно, что монологический характер сохранился. «То, что все наше познание начинается с опыта, в этом нет никакого сомнения». Таким образом, остается первоначальное намерение Канта исключить недоразумение, будто его метафизика может быть направлена против опыта. Напротив, всякое познание должно «начинаться с опыта». Кто начинает иначе, с тем «Критика» не хочет иметь ничего общего. Весь первый абзац разъясняет этот несомненный начальный пункт. Лишь второй абзац вводит новую проблему. «Хотя все наше познание начинается с опыта, отсюда вовсе не следует, что оно все происходит из опыта». Таким образом, подчеркивается различие между «начинаться» и «происходить». На этом различии основывается различение между познаниями a priori, «как их называют», и «эмпирическими»; и «по крайней мере» (стр. 47, строка 24) «вопрос» о них допустим. Но он одновременно уточняется: то, что может называться a priori, должно быть «абсолютно независимо от всякого опыта». А если к нему «не примешано ничего эмпирического», то оно должно называться еще и «чистым». Благодаря такой точности выражений объясняется первый заголовок: «о различии чистого и эмпирического познания».
Под вторым заголовком определение проблемы продолжается. «Здесь важно найти признак, по которому мы могли бы надежно отличить чистое познание от эмпирического» (стр. 48, строка 37). В чем он состоит? «Опыт никогда не придает своим суждениям истинной или строгой, а лишь предполагаемой или сравнительной всеобщности через индукцию» (стр. 49, строка 8). «Необходимость и строгая всеобщность суть верные признаки познания a priori» (там же, строка 25). До сих пор «признак» или «метка» заключается лишь в притязании на такого рода «необходимость» и «всеобщность». Однако находится еще один «признак» для этого: «это указывает на особый источник познания, а именно на способность познания a priori» (стр. 49, строка 23). «Особый источник познания» совпадет с тем «происхождением», которое было отлично от «начала».