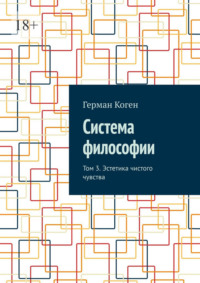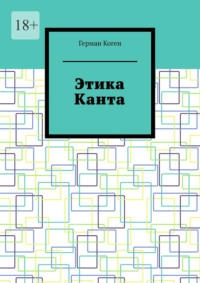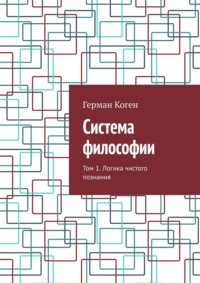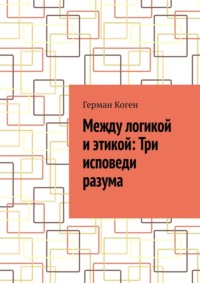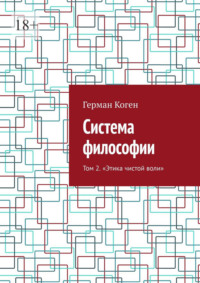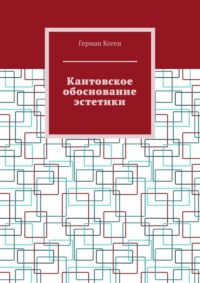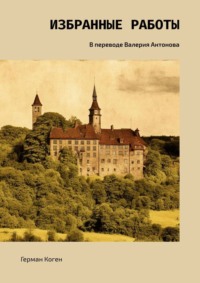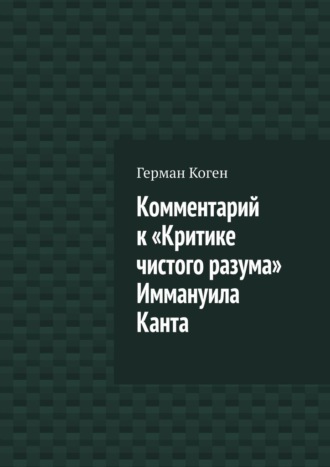
Полная версия
Комментарий к «Критике чистого разума» Иммануила Канта
Но уступчивость к эмпиризму и сенсуализму побуждает автора к дальнейшим адаптациям. «Данность» «опять-таки для нас, людей, возможна только тем, что он (объект) определенным образом воздействует на душу» (там же, строка 11). «Для нас, людей, по крайней мере» – это добавление второго издания. Какое это имеет значение? Разве Коперник, Галилей и другие априористы – просто «мы, люди»? Но именно учет общечеловеческого, психологического сенсуализма Кант хочет включить в свою концепцию. Таким образом, трудность, заключенная в «данном», усиливается через «воздействие». Кажется, существует непримиримое противоречие между вкладыванием и воздействием; но такое противоречие не должно сохраняться, иначе все методическое предприятие окажется бесцельным. Поэтому можно предположить, что здесь лишь неточность формулировки при постановке проблемы. Дальнейшее изложение убедит нас, что эта неточность также исправляется. «Воздействие» означает лишь непосредственное отношение познания к объекту как к данному, а значит, как к воздействующему. Вкладывание и полагание в основу всегда должны содержаться в этом непосредственном отношении, поскольку созерцание должно определяться как чистое.
Выходя за пределы чувственности, которая, однако, должна квалифицироваться как чистая, точнее, вносясь в нечистоту чувственности, различение должно также охватить ощущение. Во всяком созерцании и во всей чувственности речь идет о воздействии. Но «действие объекта на способность представления, поскольку мы им воздействуем, есть ощущение» (там же, строка 25). Ощущение определяется через эту отсылку к воздействию. «Способность (рецептивность) получать представления тем способом, каким мы воздействуемся объектами, называется чувственностью» (стр. 75, строка 14). Чувственность определяется «способом» воздействия; ощущение же – самим воздействием. Если данность должна полностью основываться на воздействии и быть в нем укоренена, то созерцание называется ощущением. Такой вид созерцания называется «эмпирическим».
Можно было бы подумать, что этот способ познания должен сначала полностью отступить; так оно и будет. Но общая настроенность автора на монологический тон заставила его здесь сделать еще один трудный шаг. «Неопределенный объект эмпирического созерцания называется явлением» (там же, строка 29). Таким образом, «явление» – «неопределенно». Но если объект должен быть определен, то разве он тогда перестает быть явлением? И тогда называется вещью в себе? Как мы уже знаем, он не может так называться – ведь он должен быть объектом познания – поэтому мы увидим, что он, напротив, сохраняет имя явления. Пока мы можем предположить, что отнесение явления к ощущению может быть связано с той уступкой сенсуализму, при которой, возможно, учитывался его потенциальный переход к априоризму.
Термин «явление» также заимствован; он использовался Платоном и защищался Лейбницем. Это любимое детище идеализма Кант принимает, чтобы применить к нему свое вкладывание. Явление не остается просто «неопределенным», эмпирическим объектом ощущения. «В явлении я называю то, что соответствует ощущению, его материей» (стр. 76, строка 1). Уже сейчас мы видим, что явление не может оставаться просто неопределенным и отданным ощущению; иначе оно было бы лишь «материей». «А то, благодаря чему многообразное в явлении может быть упорядочено в определенных отношениях, я называю формой явления». Таким образом, существует форма явления, которая осуществляет «порядок» явления, то есть вносит в него определенность.
Формулировка весьма запутана. Почему не сказано: «благодаря чему многообразное упорядочивается»? Почему: «что делает», что оно «может быть упорядочено»? Таким образом, форма сама по себе еще не есть порядок, но условие для него. Но где лежит это условие? В явлении; как «форма» явления. И не в его материи. Значит, не в ощущении. На что же, если не на ощущение, опирается форма явления, через которую обусловливается его «порядок в определенных отношениях», а значит, его определенность? Развитие мысли идет дальше: форма «a priori находится в душе и потому может рассматриваться отдельно от всякого ощущения» (стр. 76, строка 10). Сначала надо спросить: форма – это форма явления; как же она может «находиться в душе»? Разве и явление из-за своей формы находится в душе? И что вообще значит: «находиться в душе a priori»? Неточный смысл a priori не должен нас больше смущать; мы уже понимаем a priori в его методической ясности, как она очевидна у Коперника и Галилея. Это дает нам ключ к тем терминам, которые Кант заимствует, но придает им новый смысл через свою трансцендентальную методу.
Форма «находится в душе» лишь постольку, поскольку научная методика исправляет, но одновременно подтверждает общечеловеческое восприятие. Не абсолютно в душе находится форма явления, а лишь настолько, насколько душа овладевает a priori. Но и в явлении самом по себе, которое тогда было бы вещью в себе, форма не находится; она осуществляется лишь тем, что априорическая «душа» вкладывает ее в вещи и тем самым производит форму явления на его материи.
После того как материя и форма разделены в явлении, можно теперь выразить и методическое значение формы, то есть различие между ощущением и чистым созерцанием. Форма находится как в явлении, так и в душе, потому что она осуществляет методическую деятельность вкладывания. «Следовательно, чистая форма чувственных созерцаний вообще будет находиться в душе a priori… Эта чистая форма чувственности будет также называться чистым созерцанием» (там же, строка 15). Важно то, что форма действует и подтверждает себя как «чистое созерцание». «Нахождение» и «обнаружение» лучше определяются тем, что a priori «имеет место в душе как чистая форма чувственности» (там же, строка 29). Здесь видно, что деятельность мыслилась в форме.
Поэтому эти формы называются также «принципами чувственности» (там же, строка 31) или «принципами познания a priori» (стр. 77, строка 15). А науку о них «я называю трансцендентальной эстетикой». Примечание об употреблении слова «эстетика» у «немцев» очень интересно, потому что показывает, что проблема «эстетической способности суждения» еще не открылась критику.
О пространстве
Обсуждение пространства начинается не с него, а со времени. Это должно удивлять. При упоминании «внешнего чувства» сразу добавляется «внутреннее чувство». Таким образом, пространство и время принадлежат друг другу. Пространство «как нечто в нас» «не может быть созерцаемо» (стр. 78, строка 19), для этого ему, напротив, нужно время. Но как внешнее может предшествовать внутреннему? Пространство представляет вещи «как вне нас»; следовательно, «мы», внутреннее, должно быть предварительным условием. Почему же время не предшествует пространству?
Этот вопрос углубляется во внутреннее развитие этой методики. Второе издание различает два вида «обсуждения» понятия пространства, как и времени. Первый вид – «метафизический», который представляет понятие «как данное a priori» (там же, строка 34). Мы уже знаем это a priori как «находящееся в душе», в отличие от методического вкладывания, которое составит «трансцендентальное обсуждение». И все же они тесно связаны, совместно работая на одну методическую цель. Прежде всего, направленность на содержание научного познания определяет спекуляцию автора. Поэтому он ищет первую форму чувства, души, то есть сознания: в пространстве. Пространство дает пространственность, тогда как время может сделать объектом лишь саму душу (там же, строка 12).
Суждения о пространстве начинаются в первом из них противопоставлением «эмпирическому понятию», которое было бы «извлечено» из «внешнего», то есть пространственного «опыта». «Вне-себя-бытие», как и «рядом-себя-бытие», уже содержит в себе представление о пространстве; оно должно «уже лежать в его основе». «Рядом-себя-бытие» было добавлено только во втором издании. Смысл в том, что в «ощущениях» лежит только «материя», а не «форма»; только «многообразное», а не «отношения» его «порядка». Ошибка эмпиризма проявляется уже здесь: он помещает геометрию в ощущение; делает её простой абстракцией от него. Тогда, конечно, «вкладывание» было бы излишним; но как бы на этом, казалось бы, простом пути объяснимы были наука и её «постоянный ход», если бы вся методология уже содержалась в ощущении?
Однако недостаточно просто противопоставить пространство ощущениям. Они обозначают прежде всего психологическое состояние. Нужно атаковать предрассудок в самих вещах, в явлениях. Можно было бы подумать, что пространство, хотя и не содержится в ощущениях, всё же присутствует в их объективном содержании. В этом и состоит настоящая основа эмпиристского предрассудка: в ощущениях уже предполагаются вещи. И считается верхом абсурдности утверждение, что можно иметь представление о пространстве без представления о пространственных объектах. Кант, конечно, не проявил здесь необходимой осторожности: потому что в выражении он не провёл достаточно чёткого различия между психологическим представлением и методологическим познанием.
Однако, к счастью, есть по крайней мере одно свидетельство того, что ему не полностью недоставало той доли здравого смысла, которая должна быть решающей в этом вопросе. Можно «если не воспринимались протяжённые существа, не представить себе пространства» (8. 313, строка 30). Но здесь речь идёт не о представлении, а о познании. Можно «мыслить», что в пространстве нет объектов; это мышление называется геометрией. Но поскольку мы хотим представлять или, лучше, познавать объекты, явления, мы «никогда не можем представить себе, что нет пространства». От предпосылки геометрии для физики нельзя отказаться – в этом смысл аргумента. «Он [пространство] рассматривается поэтому как условие возможности явлений, а не как зависящее от них определение». Речь идёт о возможности физики, а значит, прежде всего о возможности математики. Теперь мы видим: пространство – это «условие» этой «возможности». Явления даны не как вещи сами по себе, так что пространство было бы зависящим от них «определением»; оно есть условие их возможности. Но во втором предложении оно ещё называется «необходимым представлением a priori». Если отбросить плеоназм, выражение «представление» – несмотря на повторяющееся «лежать в основе» – всё ещё неточно.
Третий тезис (во 2-м изд.) наконец вносит ясность: вместо «представления» теперь выступает чистое созерцание. Теперь также становится определённее противопоставление методологии понятия. Уже в первом тезисе речь шла о том, что пространство – «не эмпирическое», абстрактное понятие. Теперь важно противопоставить его всякого рода понятию. «Пространство не есть дискурсивное или, как говорят, общее понятие». Его мнимая всеобщность вредна; ведь она относится и может относиться только к «отношениям вещей». Для геометрии же вещи не даны так, чтобы пространство мыслилось как их отношение.
Нет такого множества пространств, не говоря уже о вещах для геометрии, а есть «только одно единое пространство»; а многие пространства – «лишь части одного и того же единственного пространства». Но было бы обманом логической привычки, если бы мы мыслили эти части как «составные элементы», а «единое пространство» – как их «сочетание»; «мыслить» их так можно, но «предшествовать» они так не могут. Пространство «едино, многообразное в нём, а следовательно, и общее понятие о пространствах вообще основывается исключительно на ограничениях». Эта «единственность» пространства при всех и внутри всех «ограничений» означает «чистое созерцание» пространства.
Эта «единственность», из которой развёртывается многообразие, выходит за пределы методологии понятия; для этого достижения требуется «чистое созерцание». Во всех других сферах, особенно в философии, можно обходиться понятиями; здесь же господствует иной метод: метод чистого созерцания, который поэтому нельзя уравнивать с эмпирическим созерцанием, ощущением и восприятием, потому что он точит инструменты, которыми физика оперирует в восприятии. Отсюда объясняется добавление, которое можно было бы истолковать как предвосхищение; поэтому третий тезис не удерживается от явной отсылки ко «всем основным положениям геометрии», что они выводятся не из «общих понятий», например «о линии и треугольнике», а из «чистого созерцания».
Из различия между «аналитическими» и «синтетическими» суждениями нам известна изначальная тенденция Канта выступать против суверенитета и всемогущества «понятия». «Методология» прояснит это ещё больше. Он, возможно, чувствовал себя счастливым, что смог противопоставить понятию равнозначный инструмент познания, причём первый и предшествующий, – созерцание. Деятельность, «вкладывание», становится в нём ещё яснее, в то время как понятие, поскольку оно не растворяется в мышлении, может казаться прикреплённым к объекту как его отношение.
Четвёртый тезис хочет, таким образом, защитить позицию чистого созерцания от другого возражения со стороны понятия. Ведь пространство «представляется как бесконечная данная величина». То, что в этих двух определениях есть противоречие, сейчас нас не касается; возможно, именно отсюда оно и разрешимо. Четвёртый тезис связан со вторым: пространство «едино», потому что оно «бесконечно». Но отсюда можно было бы снова заключить о пространстве как понятии. Однако бесконечность пространства состоит не в «бесконечном множестве различных возможных представлений», которые оно «как их общий признак» включало бы в себя, а в том, что оно «содержит их в себе».
Такая бесконечная способность охвата выходит за пределы компетенции «понятия»; «все части пространства до бесконечности существуют одновременно». Поэтому здесь чистое созерцание называется «изначальным». С него не начинают произвольно; оно есть источник познания. «Безграничность в продвижении созерцания», которую содержал этот тезис в первом издании, превратилась в «изначальность», возможно, потому, что «безграничность в продвижении» ещё могла казаться свойственной понятию; как понятие она могла развёртываться в эту бесконечность, но не «содержать её в себе». Чистое созерцание, напротив, развёртывает то, что изначально в нём заложено.
Мы всегда ссылались на геометрию. Однако второе издание вставило эту отсылку в особый параграф как «трансцендентальное истолкование». При этом делается ссылка на различие между аналитическими и синтетическими суждениями («Введение V») (стр. 81, строка 23), то есть на различие между чистым созерцанием и простым понятием. Так пространство как чистое созерцание становится «принципом» возможности априорного синтеза в геометрии.
Однако «трансцендентальное истолкование» не останавливается на этой отсылке к геометрии, а формулирует теперь – казалось бы, повторяя – вопрос: «как же может внешнее созерцание присущее уму, предшествовать самим объектам?» Можно сказать, что это уже объяснено, поскольку мы поняли действенность и способ действия чистого геометрического созерцания. Оно присуще уму, потому что предшествует объектам, способно вкладывать в них форму. Зачем же снова задавать вопрос?
Послушаем ответ. «Очевидно, не иначе, как поскольку оно имеет своё место только в субъекте, как формальное свойство его… получать созерцание, стало быть, только как форма внешнего чувства вообще». Что нового содержит ответ? Начнём с конца. Чистая форма созерцания была введена как форма «явления»; теперь она – «форма внешнего чувства». Объект вернулся в субъект. Она должна быть обоснована «только в субъекте». Но было бы ошибочно пытаться найти обоснование геометрического синтеза в сведении к субъективности пространства. Если для геометрии это ещё можно было бы считать мыслимым, то речь идёт не только о геометрии и даже не только о математике, но одновременно о возможности физики. Ведь именно это было ясно видимым намерением, с которого «Введение к трансцендентальной эстетике» исходило от «созерцания», «аффицирования» и «ощущения». Поэтому «трансцендентальное» истолкование не может удовлетвориться обоснованием возможности геометрии самой по себе; чтобы сделать её «понятной», оно нуждается, хотя и не явно, в предвосхищающей отсылке к физике.
Это предвосхищение можно распознать в словах, которые следуют за «формальным свойством» субъекта: «быть аффицированным объектами и таким образом получать непосредственное представление о них, то есть созерцание» (стр. 82, строка 2). Но не переворачивается ли здесь всё с ног на голову? Является ли созерцание следствием аффицирования объектами? Или же оно есть чистое созерцание?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Слово «экспекторативное» (от лат. expectorare – «изгонять», «очищать») здесь употреблено в значении стремления к «очищению» или прояснению мысли, возможно, как метафора интеллектуальной честности. В оригинале используется редкое слово «экспекторатив», которое Коген, вероятно, применяет для подчеркивания активного, даже «очищающего» характера критического анализа.