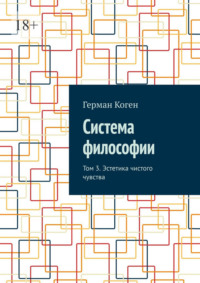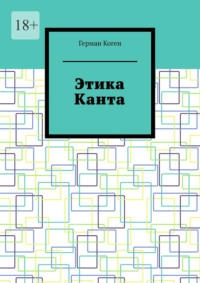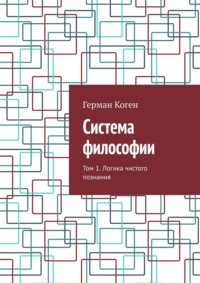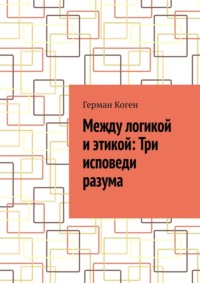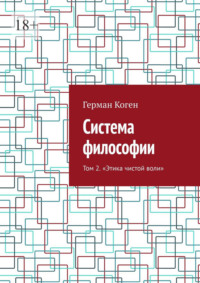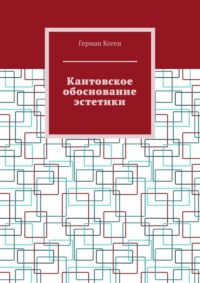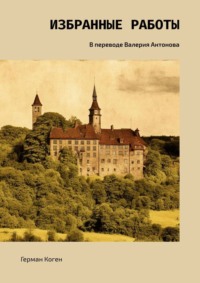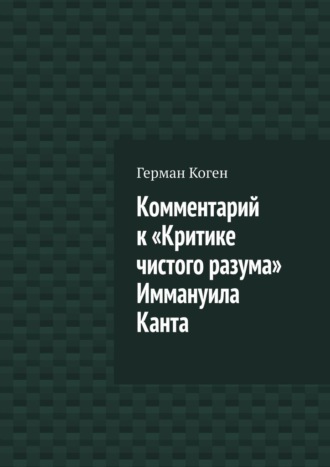
Полная версия
Комментарий к «Критике чистого разума» Иммануила Канта
Аналогии опыта.
Герман Коген в своем комментарии к «Критике чистого разума» Канта проводит глубокий анализ трех аналогий опыта, раскрывая их философские следствия для неокантианства и современной философии. Его интерпретация не просто разъясняет кантовские формулировки, но и выявляет их системообразующую роль в трансцендентальной философии, подчеркивая динамику категориального синтеза и его связь с временем как априорной формой созерцания. Первая аналогия, трактующая постоянство субстанции, демонстрирует, что время, будучи неизменным субстратом, не может быть воспринято само по себе, а требует опоры на субстанцию как «субстрат эмпирического представления времени». Это положение Коген уточняет, отмечая, что постоянство относится не к самому времени, а к категориальному принципу, который конституирует объективность длительности. Здесь проявляется ключевая для неокантианства идея: категории – не просто логические формы, а условия возможности опыта, активные силы синтеза. Колебания Канта в трактовке одновременности как модуса времени или его отрицания Коген объясняет необходимостью разграничить форму созерцания и категориальную детерминацию, что подчеркивает примат рассудка над чувственностью.
Вторая аналогия, посвященная причинности, раскрывается Когеном как фундаментальный принцип объективации временной последовательности. Кант, по его мнению, преодолевает наивный эмпиризм, показывая, что причинность – не индуктивное обобщение, а априорное условие, «вложенное» в опыт. Коген акцентирует парадоксальность кантовского подхода: хотя восприятие всегда последовательно, объективный порядок событий определяется не психологической аппрегенцией, а правилом причинности, которое ретроспективно конституирует связь явлений. Это правило, как подчеркивает Коген, не сводится к временной последовательности, но требует динамического отношения причины и действия, даже если они одновременны (как в физике). Тем самым причинность утрачивает психологическую окраску и становится методологическим принципом науки, что предвосхищает неокантианскую трактовку познания как активного конструирования, а не пассивного отражения.
Особое внимание Коген уделяет роли непрерывности в обосновании изменений, где Кант, опираясь на исчисление бесконечно малых, показывает, что переход между состояниями возможен лишь через бесконечные степени реальности. Это, по Когену, не просто математическая аналогия, а доказательство того, что синтез основывается на априорных структурах рассудка, которые придают реальности ее количественную и качественную определенность. Здесь прослеживается связь с марбургской школой неокантианства, где математизация естествознания понималась как раскрытие априорных условий познания.
Третья аналогия, посвященная взаимодействию, завершает систему категориального синтеза, объединяя пространство и время через динамическое общение субстанций. Коген подчеркивает, что одновременность не сводится к пространственной смежности, а требует взаимного влияния (commercium), что делает возможным восприятие объективного порядка. Это, по его мнению, указывает на глубокую связь физики и трансцендентальной философии: материя как носитель взаимодействия становится условием эмпирического познания, а пустое пространство – лишь границей опыта.
Постулаты эмпирического мышления и проблема модальности.
Коген подчеркивает, что постулаты эмпирического мышления у Канта – это не просто аналитические определения, а синтетические принципы, регулирующие отношение познания к его объекту. Возможность, действительность и необходимость трактуются не как метафизические свойства вещей, а как условия опыта, что соответствует кантовскому трансцендентальному методу. Однако Коген идет дальше, акцентируя, что эти постулаты раскрывают не столько содержание познания, сколько его структуру, связывая категории с эмпирическим применением. Это предвосхищает неокантианский тезис о примате метода над онтологией: познание конституирует свой предмет, а не отражает готовую реальность.
Особенно важен его анализ постулата возможности, где Кант утверждает, что возможное – это то, что согласуется с формальными условиями опыта. Коген подчеркивает, что здесь речь идет не о логической непротиворечивости, а о синтетической возможности, которая требует связи с созерцанием и понятием. Это напрямую связано с неокантианской критикой психологизма и натурализма: возможность познания определяется не психологическими законами, а априорными структурами. Современная философия науки, особенно в лице конвенционалистов и структуралистов, во многом наследует этот подход, отказываясь от наивного реализма в пользу анализа условий познаваемости объектов.
Опровержение идеализма и проблема объективности.
Коген детально разбирает кантовское опровержение идеализма, где Кант доказывает, что сознание собственного существования во времени предполагает существование внешних вещей. Коген акцентирует, что это не психологический, а трансцендентальный аргумент: внешний опыт не выводится из внутреннего, а является его необходимым условием. Это имеет далеко идущие последствия для философии сознания и эпистемологии. Современные дискуссии о реализме и антиреализме, например, в феноменологии и аналитической философии, часто возвращаются к этому кантовскому ходу, хотя и переформулируют его в терминах языковых игр или интенциональности.
Коген также обращает внимание на то, что Кант различает «представление» (как произвольную комбинацию представлений) и «способность к представлению» (как синтетическую функцию, обеспечивающую единство опыта). Это различение важно для понимания того, как возможна объективность: не через пассивное восприятие, а через активный синтез. В неокантианстве это развивается в учение о «чистом познании», где предмет конституируется в акте мышления. Современные когнитивные науки, исследующие роль категоризации и схем в восприятии, во многом следуют этой линии, хотя и с натуралистическими коррективами.
Трансцендентальная диалектика и проблема разума
Анализируя кантовскую диалектику, Коген акцентирует, что разум стремится к безусловному, но это стремление порождает не объекты, а регулятивные идеи. Это ключевой момент для неокантианства: разум не познает вещи в себе, но задает ориентиры для систематизации знания. Современная философия науки, особенно в версии Куна и Лакатоса, наследует эту идею, говоря о парадигмах и исследовательских программах как регулятивных принципах.
Коген также подчеркивает, что платоновские идеи у Канта получают новое прочтение: они не онтологические сущности, а задачи разума. Это созвучно неокантианскому проекту «философии как строгой науки», где идеи – не догмы, а методологические ориентиры. В современной философии это находит отражение в дискуссиях о статусе норм и идеалов в познании (например, у Хабермаса или Брандома).
Философские следствия для неокантианства и современной мысли
1. Примат методологии над метафизикой. Коген показывает, что Кант заменяет вопрос о бытии вопросом о условиях познания. Это становится основой неокантианского подхода, где философия – не учение о сущем, а критика познания. Современная аналитическая философия, особенно в лице Куайна и Селларса, во многом продолжает эту линию, отказываясь от «мифа данного» в пользу холизма и концептуального схематизма.
2. Критика натурализма. Кантовский трансцендентализм, как его интерпретирует Коген, противостоит как эмпиризму, так и спекулятивному идеализму. Это предвосхищает современные споры о натурализации сознания и границах редукционизма.
3. Регулятивный характер разума. Идеи разума у Канта – не догмы, а ориентиры. Это созвучно современным подходам, где научные теории рассматриваются как инструменты, а не зеркала природы (Рорти).
Герман Коген в своем комментарии к разделу «Об амфиболии рефлективных понятий» в «Критике чистого разума» Канта раскрывает глубинные философские следствия, которые простираются далеко за пределы исторической полемики с Лейбницем и затрагивают фундаментальные проблемы неокантианства и современной философии. Этот раздел, формально обозначенный как «Приложение», на деле представляет собой ключевой момент в кантовской системе, где кристаллизуется методологическая установка автора, а именно – жесткое различение между чувственностью и рассудком, несмотря на ранее высказанную гипотезу об их возможном общем корне. Коген подчеркивает, что «рефлексия» у Канта – это не просто логическое различение понятий, а трансцендентальный акт, определяющий, к какой познавательной способности – чувственности или рассудку – принадлежат данные представления, что напрямую связано с конституированием предметов опыта.
Четыре рефлективных отношения – тождество и различие, согласие и противоречие, внутреннее и внешнее, материя и форма – становятся у Канта инструментом критики лейбницевского интеллектуализма, который, по мнению Канта, игнорирует автономию чувственности, сводя её к «смутному представлению». Коген акцентирует, что Кант радикально переосмысливает эти отношения: например, тождество и различие у него укоренены не в вещах самих по себе, а в пространственно-временных условиях явлений, что опровергает лейбницевский принцип неразличимых. Противоречие у Канта – не просто логическое отрицание, а динамическое взаимодействие сил в явлении, что отсылает к его ранней работе о негативных величинах. Внутреннее и внешнее переосмысляются через призму трансцендентального идеализма: «внутреннее» вещи оказывается совокупностью отношений, а не субстанциальной простотой монады. Материя и форма, традиционно понимаемые как метафизические категории, у Канта связываются с проблемой данности: материя как «данное» в понятии предшествует определению, но сама чувственная материя возможна лишь благодаря априорным формам созерцания.
Коген показывает, что критика Лейбница у Канта – это не просто исторический спор, а демонстрация невозможности чисто интеллектуальной метафизики, игнорирующей условия чувственного опыта. Лейбниц, по Канту, ошибочно переносил логические структуры рассудка на вещи сами по себе, что привело к «интеллектуальной системе мира», где пространство и время – лишь смутные представления монад. Кант же настаивает, что пространство и время – априорные формы чувственности, без которых невозможен синтез явлений. Это различие имеет далеко идущие последствия: оно подрывает классическую метафизику субстанции, заменяя её трансцендентальной теорией опыта, где даже «субстанция» сводится к устойчивости отношений в явлении.
Особую значимость для неокантианства имеет кантовская концепция ноумена. Коген подчеркивает её двойственность: ноумен – не объект, а «граница» чувственного познания, «неизбежная задача», возникающая из ограниченности человеческого разума. Это отрицательное понятие исключает возможность интеллектуального созерцания, но одновременно предотвращает редукцию реальности к феноменам. Здесь Кант, по мнению Когена, предвосхищает проблему, центральную для неокантианства Марбургской школы: как мыслить объективность знания без апелляции к «вещам в себе». Коген видит в кантовской критике Лейбница прообраз собственного метода «критического идеализма», где акцент смещается с онтологии на логику научного познания.
Трансцендентальная диалектика.
Трансцендентальная диалектика, которую Коген кратко затрагивает, завершает этот анализ, раскрывая иллюзорность попыток разума выйти за пределы опыта. «Трансцендентальная видимость» – не ошибка, а неизбежное следствие структуры разума, стремящегося к безусловному. Для неокантианства это стало основанием для разработки теории познания, исключающей метафизические спекуляции, но сохраняющей регулятивную роль идей разума.
Таким образом, комментарий Когена выявляет, что «Амфиболия» – не просто полемика с Лейбницем, а поворотный пункт в философии Канта, где утверждается примат трансцендентального метода над догматической метафизикой. Это имеет фундаментальное значение для неокантианства: критика интеллектуализма Лейбница обосновывает автономию научного знания, зависимого от априорных условий опыта, а не от умозрительных конструкций. Для современной философии этот раздел остается актуальным как пример радикального пересмотра традиционных категорий (субстанции, причинности, объекта) в контексте анализа условий возможности познания.
Анализ раздела «О разуме вообще»
1. Различие между реальным и логическим употреблением разума
Коген начинает с того, что Кант противопоставляет реальное и логическое употребление разума:
– Логическое связано с формальным умозаключением (силлогизмом), где разум выступает как инструмент выведения заключений из посылок.
– Реальное (трансцендентальное) употребление направлено на поиск безусловного, то есть принципов, объединяющих многообразие рассудочных правил.
Ключевое определение:
– Рассудок – способность правил (категорий и основоположений).
– Разум – способность принципов, стремящаяся к высшему единству познания.
2. Принципы разума и их синтетический характер
Кант называет принципы «двусмысленными», поскольку они могут относиться:
– К аналитическим (логическим) принципам (например, законы силлогизма).
– К синтетическим (трансцендентальным) принципам, которые требуют выхода за пределы опыта.
Пример:
– Математические аксиомы познаются через чистое созерцание, а не через понятия.
– Умозаключение разума – это форма выведения знания из принципа, где большая посылка содержит общее правило (принцип), а меньшая – его применение.
3. Единство разума и его необходимость
Разум стремится к систематическому единству правил рассудка. Возникает вопрос:
– Является ли это единство необходимым для познания (как у категорий)?
– Или оно лишь формально, как регулятивная идея?
Коген отмечает, что последующие разделы (особенно учение о трансцендентальных идеях) дают ответ: единство разума – это регулятивный принцип, а не конститутивный.
4. Умозаключение разума vs. вывод рассудка
Кант различает:
– Вывод рассудка – непосредственное применение правила к случаю (например, подведение под категорию).
– Умозаключение разума – трёхчленный силлогизм, где разум ищет общее условие для подведения объекта под принцип.
Типы умозаключений соответствуют формам суждений:
– Категорические, гипотетические, дизъюнктивные.
Цель разума – редукция многообразия к минимальному числу принципов, то есть к безусловному.
5. Переход к чистому разуму и его принципам
Вопрос: Содержит ли чистый разум априорные синтетические принципы?
– Логический максимум – требование восхождения к безусловному.
– Принцип чистого разума – предположение, что если дано обусловленное, то дан и весь ряд его условий (вплоть до безусловного).
Однако этот принцип трансцендентен: он выходит за пределы возможного опыта. Кант подчёркивает, что такие основоположения – не постулаты, а гипотетические требования разума.
6. Понятия чистого разума и платоновские идеи
Кант связывает понятия разума с безусловным, которое:
– Охватывает весь опыт, но само не является предметом опыта.
– Соотносится с целым возможного опыта или его синтеза.
Здесь Коген обращает внимание на платоновские идеи:
– Кант не просто заимствует у Платона, но переосмысляет идеи в контексте трансцендентальной философии.
– Идеи у Платона – это оригиналы (образцы), а не эмпирические обобщения.
– Особенно важны практические идеи (добродетель, справедливость), которые не выводятся из опыта.
Критика «противоречащего опыта» (например, в отношении «Платоновой республики»):
– Философия не должна ограничиваться эмпирической реализуемостью идей.
– Идеи задают нормативные ориентиры, а не описывают действительность.
7. Идеи в природе и телеология
Кант распространяет идеи на природу:
– Организмы (растения, животные) и мироздание указывают на целесообразность, то есть на действие по идеям.
– Это не эмпирическое наблюдение, а регулятивный принцип разума, направляющий познание к системному единству.
8. Заключение: значение идей для философии
Коген подчёркивает мировоззренческую роль идей:
– Они выражают высшие принципы разума, не сводимые к опыту.
– Защита «идеи» в её изначальном смысле – это защита философии как поиска безусловного.
Антитетика чистого разума.
Герман Коген в своем комментарии к «Критике чистого разума» Канта углубляется в антитетику чистого разума, раскрывая её как исследование антиномий, их причин и следствий. Центральное противоречие, по Когену, возникает из-за несоизмеримости абсолютного единства синтеза с возможностями рассудка и разума: если это единство соответствует разуму, оно оказывается слишком велико для рассудка, а если соответствует рассудку – слишком мало для разума. Это противоречие, неизбежное в рамках человеческого познания, становится пробным камнем для трансцендентальной философии, которая, в отличие от морали, не может опереться на возможный опыт, а вынуждена работать с имманентными противоречиями разума.
Анализируя первую антиномию – о конечности или бесконечности мира во времени и пространстве – Коген подчеркивает, что аргументация Канта строится на понятии времени как фундаментальной основе синтеза. Бесконечный мировой ряд невозможен, так как он потребовал бы завершенного синтеза бесконечности, что противоречит самой природе последовательного синтеза. Пространство же, будучи формой внешнего созерцания, также не может быть бесконечным данным целым, поскольку его тотальность предполагает завершенность, которая недостижима. Таким образом, мир не может быть ни бесконечным, ни конечным в абсолютном смысле – это противоречие выявляет границы человеческого познания.
Во второй антиномии – о простоте или сложности субстанций – Коген акцентирует связь между пространством и составлением. Простое, как «чистая идея», не может быть дано в опыте, поскольку пространство, будучи формой чувственности, само состоит не из простых частей, а из пространств. Антитезис, отрицающий простые субстанции, опирается на невозможность мыслить простое в рамках пространственного континуума, что подрывает догматические представления о монадах или атомах. Однако тезис, утверждающий необходимость простого, исходит из требования разума мыслить последние элементы как условия возможности составного. Это противоречие, по Когену, демонстрирует, что простое есть лишь регулятивная идея, не имеющая эмпирического содержания.
Третья антиномия – о свободе и природной причинности – указывает на конфликт между спонтанностью разума и детерминизмом природы. Тезис утверждает необходимость свободы как условия первого начала причинного ряда, тогда как антитезис отрицает её, поскольку она разрушает единство опыта. Коген обращает внимание на то, что Кант здесь колеблется между трансцендентальной свободой как абсолютным началом и её психологическим пониманием. Разрешение этого противоречия лежит в различении ноуменального и феноменального: свобода возможна как интеллигибельная причина, не нарушающая природную необходимость в мире явлений.
Четвертая антиномия – о необходимом существе – выявляет апории в понятии абсолютной необходимости. Тезис требует существования необходимого существа как условия мирового порядка, но антитезис отрицает его, поскольку ни в мире, ни вне его нельзя найти безусловно необходимое. Коген подчеркивает, что эта антиномия связана с двойственностью «интеллигибельной» и «эмпирической» случайности, где первая относится к возможности иного в рамках категорий, а вторая разрешается через причинность.
Философские следствия комментария Когена для неокантианства и современной философии заключаются в следующем. Во-первых, антиномии чистого разума показывают, что разум не может достичь абсолютного знания, но постоянно сталкивается с собственными пределами. Это ведет к отказу от догматических систем и утверждению критического метода как единственно возможного пути философии. Во-вторых, Коген актуализирует кантовский трансцендентализм, подчеркивая, что противоречия разума не являются ошибками, а отражают структуру самого мышления. Это повлияло на марбургскую школу неокантианства, которая сделала акцент на логике научного познания и роли априорных форм. В-третьих, анализ антиномий предвосхищает современные дискуссии о пределах языка, онтологии и эпистемологии, например, в философии ХХ века (Витгенштейн, Хайдеггер, постструктурализм).
В третьем разделе, посвящённом интересу чистого разума в его противоречиях, Коген подчёркивает, что вопросы, обсуждаемые здесь, выходят за рамки чистой математики, затрагивая саму основу человеческого познания. Кант противопоставляет эмпиризм и догматизм, указывая на практический интерес последнего, связанный с моралью и религией. Однако эмпиризм, хотя и лишает эти сферы их метафизической опоры, обладает преимуществом в спекулятивном плане, ограничивая разум областью возможного опыта и умеряя его притязания. Это противостояние между догматизмом, стремящимся к абсолютным началам, и эмпиризмом, настаивающим на скромности познания, становится центральным для неокантианства, которое, следуя Канту, отказывается от метафизических спекуляций в пользу критического анализа условий познания.
В четвёртом разделе, посвящённом трансцендентальным задачам, Коген акцентирует кантовскую мысль о том, что ни один вопрос чистого разума не является неразрешимым для человеческого разума, хотя ответ может заключаться в признании бессмысленности самого вопроса. Это положение становится методологическим принципом неокантианства: трансцендентальная философия не решает вопросы о вещах в себе, но проясняет условия, при которых возможны сами эти вопросы. Особое внимание уделяется различию между чистой математикой и чистой моралью как науками, где все вопросы требуют определённых решений. Однако мораль, в отличие от математики, не может быть сведена к трансцендентальной философии, поскольку её принципы проистекают из разума и не допускают неопределённости.
Пятый раздел, рассматривающий скептическое представление космологических вопросов, демонстрирует, как антиномии чистого разума возникают из попыток применить категории рассудка к безусловному. Коген подчёркивает, что космологические идеи всегда оказываются либо слишком велики, либо слишком малы для рассудочных понятий, что ведёт к диалектическим противоречиям. Это имеет ключевое значение для неокантианства, которое видит в антиномиях не просто логические парадоксы, но указание на границы человеческого познания.
В шестом разделе трансцендентальный идеализм представлен как решение космологической диалектики. Коген акцентирует различие между явлением и вещью в себе, показывая, что действительность явлений основывается не на их независимом существовании, а на связи с восприятием согласно законам опыта. Это положение становится основополагающим для неокантианского понимания объективности как закономерной связи представлений.
Седьмой раздел, посвящённый критическому решению антиномий, подчёркивает регулятивный характер принципов разума. Коген отмечает, что разум не предписывает законы природе, но задаёт правила для расширения опыта. Это методологическое различение между конститутивными и регулятивными принципами становится центральным для неокантианской эпистемологии, которая отказывается от онтологических претензий в пользу методологической строгости.
Восьмой и девятый разделы углубляют понимание регулятивного принципа, показывая, что космологические идеи служат не для познания мира как целого, а для бесконечного продвижения в опыте. Это имеет важные следствия для современной философии науки, где идеи Канта переосмысляются в контексте проблем обоснования знания и пределов научного объяснения.
Особое значение имеет обсуждение свободы в третьем разделе разрешения космологических идей. Коген подчёркивает, что свобода в практическом смысле предполагает способность начинать ряд событий самопроизвольно, не будучи обусловленной природной необходимостью. Это различение между эмпирическим и интеллигибельным характером становится основой для этики неокантианства, которое видит в автономии разума высший принцип морали.
Наконец, в разделе об идеале чистого разума Коген обращает внимание на то, что идеалы служат не для описания реальности, а для ориентации практического разума. Это положение находит отклик в современной философии, где идеалы понимаются как нормативные принципы, а не как метафизические сущности.
Акцент на диалектическую видимость и её следствия для неокантианства и современной философии
Особое внимание Коген уделяет проблеме диалектической видимости и её регулятивной функции в познании. Коген акцентирует, что кантовская критика разума раскрывает не столько ошибки мышления, сколько его неизбежные иллюзии, возникающие при попытке постичь абсолютное. Вопрос о «необходимом существе», которое одновременно пугает своей бездонностью и притягивает как условие систематичности познания, становится ключевым для понимания трансцендентальной диалектики. Кант, как показывает Коген, не отрицает идею Бога или души как таковые, но переводит их в плоскость регулятивных принципов, которые организуют познание, не претендуя на конституирование реальности.