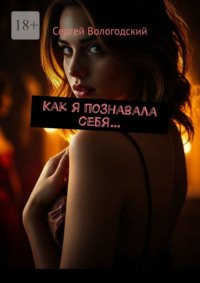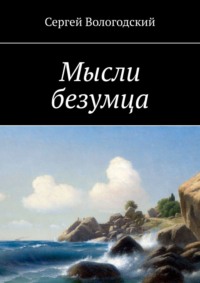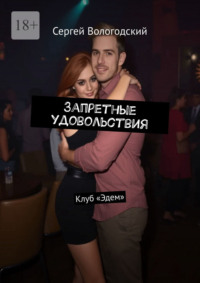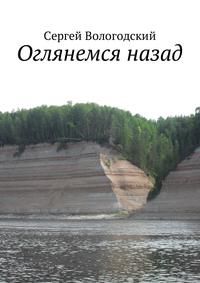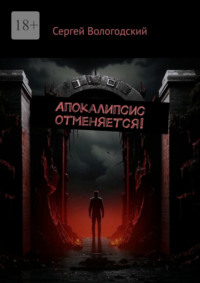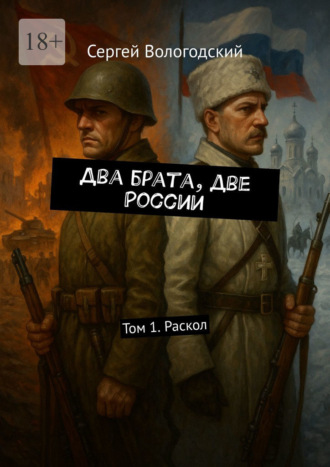
Полная версия
Два брата, две России. Том 1. Раскол
– А немец… – говорил Сидор, попыхивая цигаркой. – Упрямый он. И техникой силён. Не то что японец. Там… там совсем другая война.
Его слова о «другой войне» и «технике» звучали как приговор. Иван смотрел на него – на этого человека, уже прошедшего через ад и снова идущего туда. Слова ветерана тяжестью ложились на медальон под гимнастёркой.
Помимо строевой подготовки и тактики, были занятия по санитарии. Как перевязывать раны себе и товарищу. Как остановить кровотечение. Санитар, проводивший занятия, был сухорук и говорил быстро, по-деловому.
– Раненого, если нужно тащить, бери за воротник! – учил он. – А не под мышки! Так ему легче, и тебе сподручнее!
– А если подворотничок порвётся? – спросил кто-то из задних рядов.
Санитар равнодушно посмотрел на него.
– Значит, такая у него судьба. Тянуть всё равно придётся. За что схватишься.
«Такова судьба». Эти слова, сказанные буднично, без эмоций, прозвучали страшнее любого крика. Они не были людьми с судьбой. Они были материалом.
Учебная команда готовила их быстро. Месяц-другой – и на фронт. Учили разбирать винтовку (тридцать секунд – норма!), чистить её (это твой главный друг!), прицеливаться, стрелять. Первый выстрел из «трёхлинейки» – оглушительный грохот, резкая отдача в плечо, запах пороха. Иван смотрел на пробоину в мишени. Это не охота, не стрельба по воронам. Это умение убивать. Чужое, страшное умение. Момент инициации.
Он видел офицеров учебной команды. Молодых, в новенькой форме, пахнущих одеколоном, а не махоркой. Один из них, с тросточкой в руке, поправлял перчатки, пока их, солдат, учили рыть окопы в промёрзшей земле. Они жили отдельно, в тепле, в столовой были белые скатерти, еда пахла сытнее. «Господа прапорщики», «господа подпоручики» – так их называли за спиной с оттенком зависти и неприязни. Это был мир Николая. Мир, в который ему, рядовому, путь был закрыт.
Иван думал о брате. Где он? Учится ли стрелять по мишеням? Или уже на фронте? Вспоминает ли о нём? Сдержит ли своё обещание, данное матери? Гармонь лежала на дне вещмешка, придавленная скатанной шинелью. Тяжёлая. Иногда по ночам, когда соседи храпели, а холод пробирал до костей, Иван нащупывал рукой её угловатый бок. Но играть не решался. Как будто звуки могли разбудить того, кого уже не было, – Ивана из Ковылей. Остался только рядовой в чужой форме, который должен был учиться убивать и ждать своей судьбы, отмеченной лишь номером в списках и холодным металлом медальона.
Глава 4: Путь Николая. Офицерская школа
Николай отправился в уездный город на попутной телеге – это был более быстрый и удобный способ передвижения по сравнению с пешим переходом Ивана, но не менее тягостный из-за необходимости покидать дом. Он сидел рядом с чиновником из земской управы и слушал его рассуждения о логистике мобилизации, о предстоящих трудностях. Разговоры были деловыми, далёкими от деревенских опасений, но Николай ловил себя на мысли, что суть тревоги одна и та же.
В уездном городе их пути разошлись. Чиновник направился в присутственные места, а Николай – по адресу, указанному в повестке для прапорщиков запаса. Здание оказалось бывшей гимназией, приспособленной под нужды учебной команды. У входа дневальный, молодой солдат, вытянулся по стойке «смирно» – уважение к мундиру, даже еще не надетому, чувствовалось сразу.
– Прапорщик запаса Ковалев прибыл! – громко доложил дневальный.
Дежурный офицер, пожилой капитан с обветренным лицом, принял у него документы. Все было быстро, без лишних слов, но с той четкостью, которая сразу отличала этот мир от хаоса сборного пункта для рядовых.
– Проходите, прапорщик. Размещение – комната тринадцать. У старшины роты получите обмундирование. К занятиям приступите завтра.
Ему показали комнату – небольшую, на троих, с простыми кроватями и тумбочками. Чисто, аккуратно. Двое соседей уже были там. Поручик запаса Владимир Романов с университетской бородкой читал книгу. Штабс-капитан запаса Георгий Смирнов, сдвинув пенсне на лоб, что-то чертил в блокноте.
– Позвольте представиться, – Романов отложил книгу и поднялся. – Юрист по мирной профессии. Очень рад знакомству.
Николай пожал руку.
– Прапорщик запаса Ковалев. Из крестьян. После реального училища.
– Смирнов, историк, – отозвался второй, тоже протягивая руку. – Крестьянин-прапорщик – редкость. В наше время – ценность. Вижу, армия становится по-настоящему народной.
В его словах не было иронии, скорее искренний интерес.
Вскоре принесли обмундирование. Качественное, сшитое по мерке. Гимнастерка с золотыми погонами прапорщика, галифе, высокие сапоги из мягкой кожи, портупея, ремень, кобура для револьвера. Все новое, пахнущее кожей и сукном. Николай переоделся. Форма сидела ладно. Он поправил ремень, затянул шнурки на голенищах сапог – это требовало сноровки, но давало ощущение подтянутости. Пристегнул кобуру. Тяжесть револьвера на бедре была непривычной, но в то же время ощутимой. Николай стал другим. Не сыном крестьянина, а офицером. Ответственность этого статуса легла на его плечи вместе с портупеей.
Офицерская учебная команда – это не казармы призывного пункта. Здесь не было толкотни, криков, унизительных процедур (кроме обязательных прививок, как и у всех). Занятия проходили в светлых классах, с картами и схемами. Учили тактике – как развернуть роту в цепь, как выбрать позицию для обороны, как организовать разведку. Учили читать топографические карты, ориентироваться по компасу. Учили основам фортификации – как строить блиндажи, где рыть окопы. Учили стрелять из винтовок и револьверов, обращаться с шашкой.
Преподавали строевые офицеры, седые полковники и капитаны, прошедшие мирную службу и теперь готовившиеся к настоящей войне. Они обращались к слушателям с уважением – «господа прапорщики», «господа офицеры».
– Ваша задача, господа, – говорил на одном из занятий полковник с аккуратной бородкой, указывая указкой на схему атаки, – не только выполнить приказ штаба. Ваша задача – сохранить людей. Если вы грамотно управляете ротой, если бережёте солдат там, где это возможно… считайте, что из десяти ваших солдат хотя бы шестеро вернутся из боя. Это хороший показатель.
Шесть из десяти. Не все. Николай слушал эти цифры, и они врезались ему в память. Не романтические речи о славе, а холодный расчёт потерь. Его готовили не к подвигам, а к тяжёлой, кровавой работе командира. К ответственности за жизни людей.
Занятия чередовались с практикой на полигоне. Учились чётко и громко отдавать команды. Учились вести себя под условным огнём. Николай, с его крестьянской сноровкой и силой, быстро осваивал все прикладные навыки. Его природная наблюдательность помогала понимать тактические задачи.
По вечерам, после ужина в офицерской столовой (еда была простой, но чистой и сытной, не то что солдатская баланда), они собирались в комнате или общей гостиной. Курили (качественный табак, а не махорку), читали газеты, спорили. Романов рассуждал о том, как изменится Россия после войны. Смирнов анализировал уроки прошлых войн, проводил параллели с наполеоновскими кампаниями.
– В этой войне победит тот, кто лучше сможет управлять своей машиной, – говорил Смирнов, протирая пенсне. – Машиной армии, машиной промышленности. И машиной пропаганды.
Николай больше слушал. Его кругозор расширялся. Он видел, насколько сложнее устроен мир, чем казалось из деревни. Его образованность помогала ему понимать эти разговоры, но жизненный опыт, полученный на земле, давал ему иное, более приземлённое видение.
Он часто думал об Иване. Где он? Призвали ли его или нет? Если призвали, то на каком сборном пункте, в какой теплушке едет? Как с ним обращаются? Вспоминал свой медосмотр, формальности, относительный комфорт. А Иван? Там, наверное, крики, грязь, давка. Его наивная вера в героическую войну, наверное, уже столкнулась с реальностью. Как его найти в этой огромной, уже грохочущей на рельсах армейской машине? Полк за полком уходят на запад. Искать иголку в стоге сена? Или иголку в лавине? Обещание матери тяготило её сердце.
Однажды, спустя несколько недель, Николаю пришла почта из деревни. Письмо от матери, написанное корявым почерком писаря. Николай дрожащими руками вскрыл его. Мать писала о деревенских делах, о том, как закончили уборку, о редких вестях от ушедших земляков (не все, увы, были радостными). И, конечно, об Иване.
– Ванюшу нашего призвали, Коленька, – писал писарь под диктовку матери. – Увезли в город на сборный пункт. Как ты поехал, той же дорогой. Ты там, сынок, его ищи. Присмотри. Он ведь один… И ты там один. Вы ведь братья. Помогите друг другу.
Письмо пахло сушёными травами и родным домом. Николай несколько раз перечитал слова о брате. Значит, Иван уже в армии. Где-то здесь. В этой огромной, безжалостной машине. Новость о призыве Ивана была одновременно и облегчением (он жив, он где-то рядом, по крайней мере, в этой стране), и новым, острым уколом тревоги. Теперь ответственность за брата казалась ещё более непосильной.
Он вспомнил гармошку, которую отдал Ивану. Простую, деревенскую. Символ их общей мирной жизни, символ связи, которая теперь должна была пройти проверку войной. Гармошка у Ивана. Револьвер у него. Разные инструменты для разных судеб.
Николай сжал письмо в руке. Найти брата. Присмотреть за ним. Теперь это не просто обещание матери, а его главная личная задача на этой войне. Найти в этой «машине», которая учит офицеров считать потери («шесть из десяти») и превращает солдат в «подневольное быдло». Найти и помочь, если это хоть сколько-нибудь возможно.
Глава 5. Окопная жизнь – первый взгляд
Два месяца в учебной части пролетели быстро и мучительно. Бесконечная муштра, стрельбище, полевые занятия. Иван научился разбирать и собирать винтовку с закрытыми глазами, окапываться так, чтобы за несколько минут уйти под землю, ползать по-пластунски под колючей проволокой. Он привык к командам, уставу, жесткой дисциплине, казенной еде и запаху казармы. Его тело стало ещё крепче, жилистее, а лицо приобрело ту бесстрастную угловатость, которая отличала солдата от штатского. Юношеский пыл окончательно сменился усталой покорностью и готовностью выполнять приказ. Вся прежняя жизнь, деревня, родители, брат Николай – всё это отошло куда-то на задний план, стало почти нереальным. Реальным было только оружие в руках, суровое лицо фельдфебеля и спина товарища впереди.
После последнего смотра и получения новых подсумков с патронами их группу, около тысячи человек, погнали на станцию. Снова теплушки. На этот раз вагоны были ещё грязнее, а люди – мрачнее и молчаливее. Учебка закончилась, впереди ждал фронт. Разговоров было мало. Слушали стук колёс, курили махорку, смотрели в узкие окошки. Пейзаж за окном постепенно менялся. Леса и поля сменялись разрушенными деревнями, покосившимися телеграфными столбами, воронками на полях.
Приближение фронта чувствовалось задолго до прибытия. В воздухе появился новый запах – не привычный дым костров или печей, а едкий, горьковатый запах пороховой гари, смешанный с чем-то тошнотворно-сладковатым, тяжёлым – запахом разложения. И звуки. Сначала далёкий, глухой гул, похожий на раскаты грома, потом всё громче – артиллерийская канонада. Непрерывная, монотонная, давящая на уши и нервы.
Они прибыли на какую-то узловую станцию далеко от больших городов. Царил хаос. Эшелоны с войсками, эшелоны с ранеными, санитарные поезда, горы ящиков с боеприпасами. Суета, крики, стоны. Иван спрыгнул с подножки теплушки. Земля под ногами дрожала от взрывов где-то далеко впереди. Воздух был холодным, влажным, наполненным теми самыми новыми запахами – гари и тления.
Их построили. Дали командира – молодого подпоручика, бледного, с нервно подергивающимся глазом. Он тоже, видимо, был из запасных, как и Николай, только попал на фронт раньше.
– Рядовые! Вы прибыли в распоряжение Шестого полка! Сейчас мы выступаем на передовую! Держаться в строю! Не отставать! Шагом марш!
Пошли. По разбитой дороге, мимо сожжённых деревень, мимо полей, изрытых воронками, мимо обломков какой-то техники. Попадались навстречу обозы, санитарные повозки с ранеными. Раненые лежали на соломе, прикрытые шинелями, лица их были серыми, неподвижными. Вид этих бедолаг заставлял Ивана отводить глаза.
Они шли несколько часов. Канонада становилась всё громче. Запах тлена – сильнее. Наконец дорога свернула в лес. Здесь тоже всё было изранено войной: деревья с перебитыми стволами, ветки, обломанные снарядами. В лесу их встретил человек в грязной выцветшей шинели, с землистым лицом и нездоровым блеском в глазах. Фельдфебель.
– Значит, пополнение, – прохрипел он, равнодушно оглядывая их. – Ладно. За мной. И смотрите под ноги.
Он повел их по узкой тропинке, затем свернул куда-то в сторону, и Иван понял, что они идут по дну какой-то канавы. Стенки ее были неровными, земляными, кое-где укрепленными бревнами. Грязь под ногами хлюпала. Это были окопы.
Первое впечатление от окопов было ошеломляющим. Это был целый подземный город. Узкие ходы, землянки, ниши для отдыха. Все пропитано запахом сырой земли, табачного дыма, пота и чего-то ещё – острого, неприятного, от чего сводило желудок. По стенам ползали жирные мухи. Вездесущая грязь.
– Не отставать! Головы не высовывать! – шипел сопровождавший их фельдфебель. – Немцы наблюдают!
Иван шёл по узкому проходу, стараясь не задевать стены. Иногда приходилось пригибаться. Над головой свистели пули – негромко, но зловеще. Внезапно рядом что-то с грохотом взорвалось, землю тряхнуло, посыпался грунт.
– Мина! – крикнул кто-то сзади.
Все пригнулись. Ждали следующего. Тишина. Потом снова пошли. Сердце Ивана колотилось где-то в горле. Это не учения. Это по-настоящему.
Их привели на позицию. Длинный ход, расширяющийся в некоторых местах. Там сидели люди – солдаты. Многие в грязных, рваных шинелях, с небритыми лицами, с усталыми, равнодушными глазами. Это были «старые» солдаты – те, кто уже сидел в этих окопах неделями, а то и месяцами. Они смотрели на пополнение без особого интереса, как на новую партию мяса.
– Вот ваше место, – сказал фельдфебель, подводя Ивана и еще нескольких парней к участку траншеи. – Это первая линия. Противник – вон там, – он махнул рукой куда-то вперед, за бруствер. – Вам покажут, где пост. Где блиндаж.
Подошёл старый жилистый солдат с лицом, похожим на печёную картофелину. Его глаза были узкими и цепкими.
– Значит, новенькие? – прохрипел он, осматривая их. – Ладно. Я тут старший. Пётр. Слушайте меня. Вот твой участок, – он ткнул пальцем в стенку окопа. – Будешь стоять здесь. Голову не высовывать! У фрицев есть снайпер – сразу срежет. Смотреть вот сюда, – он показал на узкую щель в бруствере. – И слушать.
Петр быстро и деловито объяснил, что к чему. Где можно ходить, где нельзя. Где «ничейная земля» – полоса перед окопами, опутанная колючей проволокой, изрытая воронками. Вонь тления усилилась. Иван понял, что воронки там не от взрывов. Там… там лежали те, кто не добежал.
– Вот тут, – Петр указал на небольшой выступ в стенке окопа, – можно присесть, если тихо. А тут – блиндаж. Если сильный обстрел – туда. Но он маленький, на всех не хватит.
Иван слушал, стараясь запомнить. Каждый совет ветерана казался бесценным. Этот человек знал, как выжить здесь.
Наступила ночь. В окопах стало ещё тревожнее. В небе висели осветительные ракеты, окрашивая «ничейную землю» в мертвенно-бледный цвет. Где-то стрекотал пулемёт. Чаще и громче била артиллерия. Звуки были постоянными, они не прекращались ни на минуту.
Ивана поставили на пост. Стоять у бруствера, смотреть в щель, слушать. Холод пробирал до костей, несмотря на шинель. Страх был острым, физическим. Казалось, что каждый шорох впереди – это немец. Каждая тень – враг. Он крепко сжимал винтовку, палец лежал на спусковом крючке.
В какой-то момент он увидел впереди, на «ничейной земле», что-то тёмное. Неподвижное. Пригляделся. Понял. Человеческая фигура. Лежит неестественно. Русский солдат. В такой же шинели, как у него. Мёртвый. И таких там было… много. В воронках, под проволокой. Они лежали там, где их настигла смерть. Никто тела не убирал. Запах разложения… исходил оттуда. От них.
Ивана чуть не стошнило. Он отвернулся от щели, прислонившись спиной к холодной земляной стене. Это не картинки из книжек. Это не слава. Это смерть. Лежащая там, прямо перед тобой. И завтра она может прийти за тобой. Или за тем парнем рядом. Или за Петькой, который спит в блиндаже.
Шел дождь. Мелкий, моросящий. Окоп наполнился хлюпающими звуками. Грязь разжижилась, липла к сапогам. Холод усилился. Вши, которые завелись еще на сборном пункте и в теплушке, теперь почувствовали себя вольготно. Зудело невыносимо.
Еда в окопах была скудной. Сухарики, консервы, жидкая каша. Вода – из фляги, пахнущая болотом. Туалет – яма в конце хода. Всё это вместе создавало невыносимый запах, который, казалось, въедался в кожу и одежду.
Иван слушал разговоры старых солдат. Без всякого пафоса. О еде. О холоде. О том, когда пришлют смену. О том, что «там», в тылу, «не понимают». Никто не говорил о долге или Отечестве. Говорили о выживании. О том, как дожить до следующего дня.
– Эх, сюда бы балалайку… или гармошку, – вздохнул как-то Петр. – Душу бы отвел. А то тут только один мотив – «ту-тух!» да «тррр!»
Иван вспомнил про гармошку в вещмешке. Лежит там никому не нужная. Играть он все равно не умел. Да и какое дело до музыки? Здесь только смерть и грязь.
Его прежние представления о войне рухнули в одночасье. Учения в учебке теперь казались детским лепетом. Никакого строя в атаке, никакого маневрирования, как на схемах. Только сидение в этой вонючей яме и ожидание. Ожидание смерти. Или ранения.
Он думал о Николае. Где он? Наверное, ему легче. Он же офицер. Живёт не в такой грязи. Спит не под открытым небом. Может быть, у него есть возможность узнать о нём, найти его? Но как? Как из этой вонючей ямы дотянуться до того другого мира, где служат офицеры? Кажется, между ними теперь не просто расстояние в верстах, а пропасть шириной с эту «ничейную землю», полную мёртвых тел.
Холод металла медальона на груди ощущался постоянно. Напоминание. На всякий случай.
Иван сидел на дне окопа, прислонившись к стенке, и слушал бесконечную канонаду и редкие пулеметные очереди. Юношеский энтузиазм сменился глубоким, давящим страхом и усталостью. Он стал рядовым. Частью этой машины. И теперь его единственной задачей было выжить. И, если получится, вспомнить обещание, данное матери. Найти брата в этом аду на земле.
Глава 6. Офицерский быт на фронте
Два месяца в офицерской учебной команде, два месяца жизни по уставу и по карте. Николай научился читать войну по схемам, но не знал её запаха и вкуса. Эшелон доставил их на прифронтовую станцию – гудящий, пыльный улей солдат, раненых, беженцев. Здесь их распределили. Николая направили в десятый пехотный полк, который стоял на передовой.
Штаб полка – блиндажи в тылу, вязкий запах чернил и усталых людей. Назначение – командир взвода третьей роты пятого батальона.
– Рота на передовой, прапорщик, – полковой адъютант не отрывался от бумаг. – Прибудете, примете взвод. Командир роты введёт вас в курс дела. Не теряйтесь. И… берегите людей.
Последние слова были произнесены почти неслышно, но Николай уловил их и запомнил.
Путь до передовой – на попутных машинах, пешком, мимо разрушенных деревень и полей, изрытых воронками. Все ближе грохот канонады, все сильнее тошнотворный запах гари и тлена. Наконец – окопы.
Грязные, сырые траншеи, в которых жили люди, похожие на подземных обитателей. Первое впечатление было сильным – не ужас боя, а ужас быта. Сырость, холод, вонь, постоянное ощущение опасности. Его встретил командир роты, штабс-капитан, с лицом, вылепленным из глины окопов. Он показал землянку взводного – нору с земляным полом и одной нарами.
– Взвод вон там, на фланге, – прохрипел штабс-капитан, не вставая. – Игнатьев, старший унтер, поведёт вас в бой. Человек бывалый, слушайтесь его. И… не высовывайтесь без нужды.
Николай добрался до своего участка. Встретил старшего унтер-офицера Семена Игнатьева – усатого, кряжистого, с прищуренными, оценивающими глазами. Фронт выжег в нем все лишнее, оставив только деловитость и знание жизни – той, что здесь, под землей.
– Господин прапорщик, – голос Игнатьева был сухим, без интонаций. – Взвод в порядке. Вот списки. Что осталось. – Он показал на вытянувшиеся ряды солдат в траншее. – Люди… разные. Бывалые, необстрелянные. Смирные и бедовые.
Игнатьев не давал долгих наставлений. Он просто показывал и называл вещи своими именами. Где пригнуться, где не высовываться. Где спать вполглаза. Где немцы. Про «ничейную землю» – полосу между окопами, где «никто не хозяин, кроме смерти».
– Главное – не думать много, – говорил он, закуривая махорку от фитиля коптилки. – Думать вредно. Надо делать, что велят. И ждать. Все здесь только и делают, что ждут. Или пули, или приказа.
Николай принял взвод – около сорока человек. Разных. Но всех объединяла грязь на шинелях, усталость в глазах и ожидание. Среди них было несколько лиц, которые запомнились сразу.
Фёдор, высокий, сутулый, с вечно грустным выражением лица и большими рабочими руками. Плотник из подмосковной деревни. Говорил тихо, работал быстро, казался абсолютно покорным судьбе.
Егор, наоборот, был маленьким, юрким, с хитроватым прищуром и проворными пальцами. Из воронежских, балагур и выдумщик. Умел достать табак, починить сапог, рассказать анекдот. В его глазах, несмотря ни на что, горели искорки жизни.
– Здравствуйте, братцы, – сказал Николай, обходя строй. – Я ваш новый командир, прапорщик Ковалев. Будем служить вместе. В этих… условиях. – Он не стал говорить о долге и Отечестве. Эти слова здесь звучали пусто. – Главное – выполнять приказ. И слушать меня.
Солдаты отвечали негромко, некоторые кивали. В их взглядах не было ни воодушевления, ни неприязни. Только привычная настороженность – каким будет этот новый командир? Удастся ли с ним выжить?
Быт офицера на передовой отличался, но разница была относительной. Землянка – не дворец, но своя. Офицерский котелок – еда чуть лучше, но всё та же полевая кухня. Главное отличие – одиночество командира. Он не мог сидеть и слушать солдатские байки, курить с ними махорку. Между ним и ними – невидимая стена субординации. Он должен был быть примером, опорой, тем, кто знает и решает.
Шли дни. Окопная жизнь затягивала. Привыкал к запахам, к грязи, к постоянному фону канонады. Научился различать свист снарядов, определять их калибр и направление. Научился спать под этот грохот. Взвод жил своей жизнью, размеренной, тихой.
На посту сменяли друг друга. Делились последней щепоткой табака. Рассказывали короткие истории из прошлой жизни – про дом, про жён, про детей. Фёдор рассказывал про свой плотницкий инструмент, про то, как поставил баню родителям. Егор травил байки про деревенские свадьбы и драки. Николай слушал их разговоры, проходя по траншее. Это были его люди. Его ответственность.
По ночам, при свете коптилки, Николай сидел над картой. Изучал схему позиций. Думал о своих людях. О цифре «шесть из десяти». О том, как сделать так, чтобы эта цифра стала выше.
И постоянно – мысль об Иване. Мать просила найти. Обещание жгло душу. Но как? Как найти рядового Ивана Ефимовича Ковалева в этом многомиллионном, грохочущем, постоянно меняющемся организме, который называется действующей армией?
Поиск стал его навязчивой идеей. Каждую свободную минуту он тратил на попытки узнать, расспросить. Он стал внимательнее относиться к любому прибывшему пополнению – откуда? Какие фамилии? Пытался заглядывать в документы, если удавалось.
– Семен Петрович, а вот обоз из какого полка идет… не спросить ли у них про… ну, про знакомых? – говорил он Игнатьеву.
Игнатьев смотрел на него своим цепким взглядом.
– Здесь, господин прапорщик, о знакомых не спрашивают. Здесь спрашивают о смерти. Она одна всем знакома.
Но Николай не сдавался. Он стал чаще находить поводы, чтобы пойти в полковой медпункт: сопроводить раненого солдата, отнести донесение. Медпункт – это ещё один срез войны. Стоны, крики, запах йода и крови. Раненые из разных рот, батальонов, иногда – из других полков, доставленные на перевязку.
– Откуда вы, братцы? – спрашивал Николай, проходя мимо рядов с ранеными.
– Из третьего полка. Из второй дивизии.
Он пытался расспрашивать санитаров, фельдшеров – тех, кто видел поток людей.
– Вы не встречали рядового Ковалева? Ивана Ефимовича? Из Саратовской губернии?
Санитары устало смотрели на него и качали головами.
– Ковалевых тут… каждый день. Иванов – тоже. Откуда он – кто их запомнит?
Однажды, перекуривая в перевязочном пункте, он разговорился с пожилым санитаром.
– Ищу вот брата… недавно призвали… Иван Ковалев… из Саратовской области.