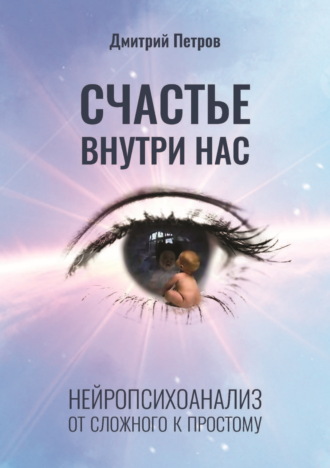
Полная версия
Счастье внутри нас
Вот почему момент, когда мама или папа проговаривает эмоцию за ребёнка – это не просто воспитание. Это акт рождения личности. Когда взрослый говорит: «Ты злишься, потому что тебе сейчас больно» – он не просто объясняет поведение. Он вытягивает чувство из хаоса и даёт ему форму. Даёт ему место в теле. В психике. В жизни.
Именно так формируется то, что в нейропсихоанализе называем вербальной личностью. Не просто «говорящий человек». А человек, который может сказать о себе, своим голосом: что он чувствует, чего он хочет, что с ним происходит. Вербальная личность – это внутренний свидетель, который не осуждает. Это внутренняя мама, внутренняя фигура, которая слышит и называет.
Именно она – та, кто однажды, спустя годы, в критический момент сможет сказать: «Мне больно, но я справлюсь». И это будет не просто фраза. Это будет голос зрелой психики. Сформированной когда-то в тот момент, когда мама сказала: «Ты расстроился, потому что я забрала игрушку. Я сделала это, чтобы ты лучше поспал. Я тебя люблю».
Именно это – когда ребёнок может назвать то, что с ним происходит, – и является финальной стадией становления вербальной личности. Это не просто формальное освоение языка, не просто набор слов и предложений. Это, прежде всего, внутренняя структура, в которой инстинкт, чувство, тревога, опыт, память и смысл соединяются в одном акте понимания и произнесения: «Я боюсь». В этой фразе уже есть субъект. Уже есть «я», отделённое от эмоции. Есть рефлексия, есть пространство между стимулом и реакцией. Есть внутренняя дистанция, необходимая для осознанности.
Так рождается субъект. Не в момент рождения тела, не в момент первого вдоха. А в тот момент, когда внутренний мир становится озвученным, когда хаос чувств получает имя. И если рядом был взрослый, который помог это имя найти, который не перепугался детской тревоги, а перевёл её в слова, ребёнок обретает самого себя. Потому что эмоция, ставшая словом, больше не владеет им. Она становится доступной для мышления, для осмысления и, главное, для управления.
Вот тут и начинается настоящее взросление. Не тогда, когда человек получает паспорт или выходит на работу. А тогда, когда он может остановиться, почувствовать, сказать себе: «Мне тревожно. Почему? Откуда это? Чьё это чувство – моё или принесённое? Моё сегодняшнее или мамино из прошлого?» Вот она, зрелость – не в подавлении эмоции, а в умении её понять и назвать.
Именно в этом заключается роль взрослого – быть проводником. Быть тем, кто не только заботится, кормит, укрывает, но и называет, означает, помогает соединить внутренний хаос с внешним порядком языка. И тогда тревога перестаёт быть всепоглощающей. Она становится сообщением, сигналом, с которым можно что-то делать. Который можно выразить, разделить, а не спрятать в глубины бессознательного.
Вербальная личность – это личность, которая может говорить о себе. Не о мире в целом, не о других людях. А о себе. Это тот, кто может быть свидетелем своего внутреннего мира, и, значит, его автором. А авторство – это всегда свобода. Свобода видеть, выбирать, реагировать. И именно эта свобода становится финальной точкой в становлении зрелой психики.
Но путь к ней долог и не всегда прямолинеен. И на каждом его этапе ребёнку нужен кто-то рядом. Кто будет называть вещи своими именами. Кто скажет: «Ты расстроился, потому что я не разрешила тебе взять эту игрушку. Это обидно, я понимаю. Но я рядом. Я тебя люблю. Всё хорошо». Всего несколько слов – и хаос превращается в структуру. Взрыв чувств становится осмысленным событием. И эта структура останется с ребёнком навсегда. Она и станет тем фундаментом, на котором будет строиться вся его взрослая жизнь.
Это всегда про одно – про свободу. Про то, чтобы освободиться от невидимых нитей, за которые человека дёргают внутренние программы, оставшиеся с самого начала. Те, что родились не в момент, когда человек осознал себя, а тогда, когда ещё даже слов не знал. В этом парадокс: чтобы вырастить свободного ребёнка, нужно быть свободным самому. А для этого – научиться распутывать в себе клубок эмоций, страхов, реакций, которые когда-то помогли выжить, но теперь мешают жить.
С момента зачатия, с самой первой клетки, человек – это сенсорное существо. Он рождается не с чистым листом, а с чувствующим телом, которое ежесекундно наводняется миллионами сигналов: свет, звук, запахи, касания, мамины эмоции, мамино настроение, даже тембр её голоса. Эта лавина данных не просто оседает в памяти – она буквально формирует человека.
Все эти впечатления проходят долгий путь: от сенсорных областей мозга – в средний мозг, где впервые включаются фильтры – что оставить, что отбросить. Средний мозг – страж на входе во внутренний мир человека. Если он справляется, человек учится отличать, где опасность, а где просто неожиданность. Если не справляется – начинает бояться всего. Даже себя.
А дальше – миндалина. Та самая часть лимбической системы, что отвечает за эмоциональное восприятие, за то, как человек реагирует на внешний мир. Миндалина – как дирижёр в оркестре эмоций. Она принимает сигналы, оценивает: угроза это или радость, и передаёт дальше. Запускает тело: сердце стучит, мышцы напрягаются, дыхание сбивается – ты в тревоге. Или наоборот – расслабляешься, если ситуация безопасна.
Но миндалина делает больше: она строит карту. Эмоциональный ландшафт. Она как будто рисует на внутренней карте мира – здесь опасность, здесь тепло, здесь любовь, здесь боль. Эта карта становится для человека основой – именно по ней он ориентируется в жизни, даже не осознавая этого.
И здесь хочется сказать: в идеале – да. В идеале так и должно быть. Но… разве люди живут в идеале? Каждый человек приходит в мир не в вакуум, а в реальность, полную трещин, недосказанностей, собственных поломок у родителей, страха, боли и безответных надежд. А значит – на каком-то этапе развития мозга, на каком-то повороте внутри человека, что-то могло пойти не так. Что-то могло сломаться. Не сложиться.
Чтобы представить это проще, вообразите три стакана с водой. Один – прозрачный. Через него видно всё чётко и ясно. Это здоровая, устойчивая психика. Второй – мутный. Через него можно увидеть очертания, но с искажениями. А третий – с грязной водой. Через него не видно вообще ничего. Всё завуалировано, всё пугает, всё кажется опасным. Вот так и психика человека: через какой фильтр мы смотрим на мир, так мы его и воспринимаем.
Это и есть эмпатия. Не только способность чувствовать другого, но и способность различать: что во мне моё, а что – не моё. Где моя тревога, а где – мамины несказанные страхи. Где моя боль, а где – отголоски чужих непрожитых эмоций. Чем прозрачнее «стакан», через который мы смотрим, тем больше шансов у нас увидеть другого – по-настоящему.
* * *P.S. И, если говорить честно, – тем, кто работает с детьми, пережившими травму, надо быть особенно внимательными. Не к диагнозу. Не к ярлыку. А к сути. Потому что то, что взрослый назовёт “проблемным подростком”, в реальности может быть ребёнком, который просто боится. Просто не умеет говорить. Просто не знает, как быть.
Если ребёнка уже назвали «плохим», его будут лечить как плохого. Если назвали «ненормальным» – как больного. Один и тот же поступок могут трактовать как «поиск помощи» или как «манипуляцию». Всё зависит от того, с какой точки зрения на него смотрят.
И пока в родителе живёт его собственная непрожитая боль, тревожный ребёнок будет рядом с тревожным взрослым. А признать это – почти невозможно. Гораздо проще сказать: «С ним что-то не так». И отказаться от ответственности. От изменения своих собственных паттернов. Но именно это чаще всего губит детей. Не отсутствие лечения. А отсутствие готовности взрослых измениться ради своих детей.
Как перестать кричать на ребенка?
Проблема отношения ребёнка и родителей. Здесь даже больше, скажем так, родителей с ребёнком. На самом деле, это очень интересная и больная тема для многих. Как ребёнок воспринимает, что ребёнок воспринимает, почему он ведёт тем или иным образом. Но сегодня с вами не будем в данном направлении слишком много говорить.
Начнем разговор с того, почему люди кричат с позиции взрослых. Начнем говорить, потому что важно развить именно понимание того, что с ребенком происходит, как он формируется, как его психика начинает в этот момент формироваться, как начинает реагировать на крики взрослого, на похвалы взрослого.
Нет такой чёткой науки, которая утверждает, что это только так. Нет. Психика, это на самом деле очень сложная система, и она не познана. Наш мозг, он не познан. Он только познаётся. И в последние годы, начиная с 2000-го, началось более глубокое изучение мозга.
И в этой части книги обсудим с вами проблему между родителями и детьми. Очень важную играют роль, в зависимости от возраста ребенка, требования к нему. Родители должны предъявлять требования согласно возрасту и предъявлять большее требование они не могут, поэтому, исходя из этого, давайте начнем разбираться с того, что мы кричим на ребенка.
Ребенок не всегда понимает взрослых, он не делает то, что они ему говорят, то, что он обязан делать. Согласно опросу, большая часть показала то, что он не убирается в комнате, не поддерживает порядок. Это вызывает негативные эмоции у взрослых.
Я думаю, что каждый из вас замечал, что сначала вы накричите на ребёнка, а потом, когда вы успокаиваетесь, то начинаете осознавать, что это вы сделали. Вроде, как говорится, перегнули палку. Это как раз показатель того, что вы, когда кричали на ребёнка, были в состоянии аффекта. То есть не понимали именно реальной ситуации, которая с вами происходит. И почему это происходит.
И теперь давайте пойдем уже в глубину нейробиологии, нейропсихоанализа, чтобы понять, как устроен наш мозг. Это понимание придется объяснять только через мозг, через психику, никак по-другому. Есть интересная метафора, приведенная Марком Сомсом, американским нейропсихоаналитиком, основателем нескольких институтов нейропсихоанализа: «Идет гроза. Мы сначала видим молнию, потом слышим гром. Это одно и то же на самом деле. Это электричество. И гром, и молния. Многие ли из вас понимали это? Или есть понимание, что это разные вещи – мы видим молнию и слышим гром. Просто разными рецепторами мы это видим, слышим и ощущаем. Молнию мы видим. Это зрительные рецепторы. Гром мы слышим. Это слуховые рецепторы работают. Наш мозг обрабатывает всю информацию и соединяет все в одно целое.»
Вот это как раз о том, как человек формирует свою психику в действительности. Это своего рода метафора, выраженная через образы природы, о процессе создания и формирования человека. Психика человека устроена таким образом, что она должна понимать, и это даже генетически предопределено, что его мозг должен соединить гром и молнию и заключить: да, это электрический заряд. То же самое происходит и со всем окружающим миром, который он воспринимает. Мозг человека призван понимать, что вот это целое состоит из каких-то отдельных составляющих, но в конечном итоге представляет собой единое целое.
Если эта способность у человека не сформирована, то это и является той самой, своего рода, патологией, которая определяет его дальнейшее восприятие мира. Если для человека молния – это одно, а гром – нечто совершенно иное, то он именно так и будет воспринимать окружающий мир. И, что самое важное, точно так же он начинает воспринимать и другого человека. Когда человек не понимает своей целостности, он воспринимает себя фрагментарно, об этом я более подробно рассказал в предыдущем разделе этой главы.
И как это начинает влиять? Это происходит у человека с раннего детства. Видит, слышит он разными зонами мозга, разными рецепторами. Но…Эти разные модальности должны объединиться в одно целое и создать ему картинку. И это делает мозг. Это происходит в определенной зоне мозга. Есть у человека ассоциативные зоны, которые проводят ассоциацию и создают целостную картину. Так он начинает видеть себя той целостной личностью, которой он является.
Если явление не воспринимается как целостное, сознание человека неизбежно дробит его на части – он видит вспышку, затем слышит раскат, – и хотя это единый природный акт, его разум упорно разделяет их во времени и пространстве. Так формируется искаженная картина реальности.
Но что лежит в основе этого? Всё дело в том, как устроено восприятие. С момента зарождения сознания мозг учится классифицировать, анализировать, дробить целое на элементы – иначе мир попросту невозможно осмыслить. Однако такая «разделительная» модель мышления не врождённа. Она возникает в процессе развития, постепенно деформируя нейронные структуры, о чём шла речь в предыдущих разделах. Именно эта «фрагментарная» организация мозга заставляет видеть молнию отдельно от грома, форму отдельно от содержания, звук отдельно от смысла.
К сожалению, данная деформация – не абстрактная теория. Она пронизывает все уровни взаимодействия человека с миром, и потому возвращаться к её анализу в этой книге придётся вновь и вновь. И только осознав механизмы работы собственного разума, человек сможет приблизиться к целостности – той, что существовала до того, как мозг научился делить.
Напомню, что для удовлетворения какой-либо внутренней потребности должно произойти соединение между этими нейронами, создаться нейронная сеть. Просто так человек не может пошевелить даже пальчиком. Должна создаться нейронная сеть, которая и позволит подвигать пальцем. Эта сеть создается мгновенно. Эти соединения происходят за миллисекунды. И эти программы формируются в мозге человека. Они остаются навсегда сформированы, начиная с внутриутробного состояния.
И все эти программы создаются за счет эмоций, за счет эмоциональной составляющей. Эмоция – это как раз тот двигатель, который и помогает организму развиваться и ускорять это развитие.
Постепенно созревают речевые функции, и у ребёнка формируется речь. И он эти фонемы, начиная с перинатального периода, переносит уже в более взрослую часть жизни. Он уже понимает, что ту эмоция, которая была, когда он был в животе у мамы, он слышал, как обращение. Обращение мамы к нему – через маму он чувствовал эмоции.
Постепенно приходит осознание, что те переживания, то напряжение и беспокойство, которые ребенок испытывал, связаны с самим процессом создания любой нейронной сети или программы, который изначально сопряжен с тревогой и стрессом.
Причина кроется в нарушении установившегося баланса. Баланс подразумевает, что каждый нейрон занимает свое определенное место – это и есть состояние покоя. Когда же начинают формироваться новые связи, этот покой разрушается, возникает дисбаланс, что и вызывает стресс.
В идеале, этот стресс должен привести к конкретному результату. Например, движение пальцем свидетельствует о том, что напряжение позволило получить определенное удовлетворение, и это положительный исход. Если же движение не удалось, палец остался зажат, и цель не была достигнута, стресс сохраняется, и ребенок не понимает его значения. Осознание этого факта приходит позже, когда ребенок овладевает речью.
Именно тогда и были заложены эти фонемы. Фонемы, связанные с обращением к нему, фонемы, отражающие, беспокойство матери. Ребенок это интуитивно воспринимает. Формируется основа, эмоциональная платформа для образов, которые он переживает, ощущает в процессе внутриутробного и раннего постнатального развития.
И по мере того, как начинается общение с ребенком, постепенно формируется его речь, понимание, начинается означение этих эмоций. И они приобретают смысл, словно проникая извне вглубь, обозначаются, возможно, вплоть до перинатального периода. Означивание происходит через призму эмоций.
Однако, указанные эмоциональные факторы, такие как стресс и, особенно, тревога, продолжают оставаться скрытыми внутри ребенка. В этой части книги важно от разговора о детях перейти к родителям, но восприятие родителей, к сожалению, формируется на том же уровне, поэтому пришлось вернуться к детской теме. Суть в том, что, когда отсутствует понимание хотя бы одной из пяти схожих реакций, одна из них становится означенной, а другие – нет.
Получается, что ребенок идентифицирует одни эмоции, в то время как другие остаются неосознанными. Психика не обрабатывает их как понятные и знакомые чувства. Именно это и создает эффект "грома и молнии", когда человек не осознает, что это взаимосвязанные явления – одно и то же.
Итак, что же происходит в действительности? Часто отсутствует осознание собственных внутренних эмоциональных состояний, понимания, что все эти переживания – часть меня. И это продолжается, когда человек взрослеет…
Позвольте немного вернуться назад и объяснить концепцию означивания, поскольку не все знакомы с этим термином, на который я часто ссылаюсь. Представьте себе ребенка: еще в утробе матери у него формируется психика. Как и любому живому организму для роста, ему необходимо питание.
Пока ребенок находится в утробе, питание происходит автоматически, через кровеносные сосуды, соединяющие его с матерью. Но когда он рождается, происходит отделение плаценты, и ребенок становится физически независимым. Теперь он должен питаться через рот, принимая пищу. Однако, представьте себе новорожденного, которому всего один-два дня от роду. Он еще не осознает, что хочет есть, и даже не знает об этом чувстве.
Потребность в пище ощущается как внутреннее напряжение, сигнал организма о необходимости подкрепления. Этот дискомфорт вызывает беспокойство. Младенец сообщает о своем состоянии матери, которая интуитивно понимает причину плача и предлагает кормление. Удовлетворение голода снимает стресс. Со временем мать начинает словами объяснять потребность ребенка, спрашивая, хочет ли он есть. Таким образом, дискомфорт, вызванный голодом, ассоциируется с конкретным желанием.
По мере взросления, ребенок, осознает это чувство как голод. Он не испытывает панику или тревогу, а просто понимает, что пора поесть. Он удовлетворяет потребность в пище, и дискомфорт исчезает. Произошло "означивание" – эмоция, связанная с потребностью в еде, была осознана и названа.
И ребенок уже точно знает, что это состояние, эта тревога – это я хочу кушать, поэтому тревоги не возникает. Возникает сразу же конкретное понимание. Психика ребенка постепенно создает свою конструкцию, называемую «я», то, через что он воспринимает мир, через что он удовлетворяет свои потребности в социуме.
Итак, ребенок заявляет о желании удовлетворить голод, это и есть означение. Но существовало невообразимое количество различных обстоятельств, которые не получили должного означения, которые ребенок не смог до конца осознать. Ему не хватает понимания, и некоторые чувства остаются неозначенными внутри него и он не может их идентифицировать. В результате это трансформируется в чувство тревоги. И вот, возвращаясь к теме ребенка, можно увидеть, что аналогичные процессы происходят и во взрослом периоде.
Представим ситуацию: сотрудник находится на рабочем месте – мама пришла на работу. Наше общество далеко от совершенства, и часто возникает необходимость сгладить острые углы, что не всегда удается. В результате, люди совершают ошибки, предпринимают действия, которые не совсем соответствуют ожиданиям окружающих, даже если они сами не осознают своих желаний. Это приводит к возникновению конфликтных ситуаций. Но давайте внимательно рассмотрим, что именно происходит, когда разгорается конфликт.
Открытый конфликт. Обычно мы воспринимаем его с позиции зрелого человека через свою взрослую часть. И отыгрываем его, оставаясь в рамках взрослой модели поведения. Например, можем резко ответить руководителю. Или, выйдя за дверь, высказать ему все, что накипело, в его отсутствие. Это приносит облегчение. Таким образом, можно нейтрализовать тревожное состояние, давая ему выход. Можно означить его и признать.
Однако, я упустил, хотя и коснулся этого вскользь, один критически важный аспект. Не то чтобы совсем упустил, скорее не акцентировал на нем внимание. Когда я упоминал о детской тревоге, передаваемой матери, которая понимает, что ребенок голоден, вот что важно. Ключевой момент, который следовало подчеркнуть, – это каким образом ребенок сигнализирует о своей внутренней нужде, вызывающей беспокойство или дискомфорт, тревоги или стресс.
Все довольно просто. Существуют нейроны, известные как зеркальные, возможно, кто-то о них знает. Эти нейроны, получившие свое название не случайно, были открыты относительно недавно, в 1996 году. Благодаря им люди обладают способностью понимать намерения и эмоции окружающих.
Многим из вас, вероятно, кажется очевидным, что, наблюдая за действиями других, например, за тем, как кто-то копает картошку, мы можем воспроизводить эти действия самостоятельно. И это возможно благодаря зеркальным нейронам, позволяющим нам учиться без прямых инструкций и объяснений.
Существует состояние, называемое аутизмом. Это состояние, или особенность, характеризуется нарушением работы зеркальных нейронов. Точнее, наблюдаются отклонения в функционировании этих нейронов. Человек с аутизмом, даже наблюдая за процессом копания земли, может испытывать трудности с повторением этого действия. Это демонстрирует, как функционирует наш мозг, и как работают ассоциативные зоны – зеркальные нейроны, позволяющие понимать действия других. Аналогичный процесс должен происходить и с эмоциями, но именно здесь и возникают сложности.
Все переживания и поступки человека исходят из его детского "я". Это означает, что определенные программы, сформировавшиеся в раннем возрасте, не интегрировались полностью, не соединились в одно целое и остаются неозначенными. Представьте себе: активируется некая детская программа, возникшая, например, в первую неделю жизни. И вот, взрослому уже 30, 40 или 50 лет, а он не осознает, что эта эмоция осталась нераспознанной. Он ощущает тревогу, но даже не осознает её. Его задача – почувствовать это переживание и довести его до сознания.
Вот есть внизу мозга детская часть, сверху, в виде коры мозга взрослая часть. Человек воспринимает мир этой взрослой частью. Это та часть, которая связана с социумом, с тем миром, в котором он находится. Но вся его жизненная энергия, вся его жизнь заключается в нижней части, в формировании того, как он воспринимает этот мир, что с ним происходит. И эта взрослая верхняя часть должна научиться понимать, что было тогда. То есть, должно быть означено то, что происходит у него – «я хочу кушать». Понимаете? А если вот это происходит, к примеру, а здесь непонятно что – оно не означено.
В этой ситуации, тревога начинает нарастать, поднимаясь с нижних уровней. Наша задача – интегрировать её в социум, придать ей смысл. Другими словами, необходимо рационально объяснить происходящее. Если эта энергия не найдет выхода, если ей не позволить проявиться, это приведет к разрушительным последствиям. Эмоция по своей сути – это форма энергии.
И она должна всегда выходить. Она должна перейти в работу. Это физика. Энергия переходит в работу. Работа – это либо мысли, либо какие-то действия. Все что угодно. Поэтому первичная эмоция заставляет человека как-то либо создать ситуацию, либо какую-то ситуацию воспринять так, чтобы эта эмоция была ратифицирована через взрослую часть, которая соединена с социумом. Понимаете? Не ребенок заставляет взрослого наорать на него и испытать, ну, к примеру, вину. Нет. Вина заставляет взрослого наорать на ребенка.
Ключевой момент – небольшая трансформация вашего текущего восприятия. Простой пример: чтобы подтвердить наличие страха, можно приблизиться к львиной клетке и распахнуть ее, а затем воскликнуть, что вам страшно. Возникает вопрос: зачем было открывать клетку? Ответ, скорее всего, будет невнятным. Люди часто не могут объяснить мотивы своих действий. Эмоции подталкивают их к определенным поступкам. И теперь давайте вернемся к взаимодействию с руководителями, а затем к воспитанию детей.
Люди испытывают широкий спектр эмоций, некоторые из которых находят выход. Какие-то переживания они отыгрывают в общении с руководством, выражая свое недовольство, в то время как другие остаются подавленными. Существуют различные причины, по которым они не могут дать волю чувствам, зачастую из-за социальных ограничений, и тогда эмоция остается внутри нас. Возьмем, к примеру, агрессию. Если человек приходит домой, не избавившись от нее, как я уже говорил, она может его разрушить, подобно переполненному конденсатору. Конденсатор накапливает энергию до определенного предела, и при превышении этого лимита он взрывается. Аналогичным образом, невыраженные эмоции могут человека разорвать изнутри.
Чтобы этого не произошло, психика человека стремится выплеснуть эту энергию. Но куда и как он может выплеснуть агрессию, вызванную, например, начальником? Зачастую эта агрессия связана не с конкретным начальником, а с более глубокими, детскими переживаниями, с эмоциями, которые не были означены в раннем возрасте. Получается парадоксальная ситуация: человек живет не своей жизнью, а проигрывает чужие сценарии. И вот эту подавленную эмоцию необходимо выплеснуть любым способом. Самый простой способ – на близких, на супруга или ребенка.



