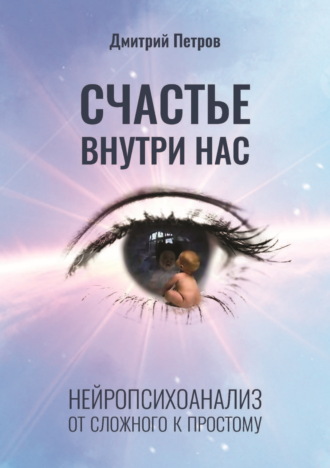
Полная версия
Счастье внутри нас
Большая часть информации, с которой вы познакомитесь, взята из современных научных источников. Из нейробиологии. Из исследований, за которые вручали Нобелевские премии. Это не теория – это биология. Это то, как вы устроены. И как устроены ваши дети.
Часть 1. Довербальное развитие младенца
Начнём с самого начала. Что такое мозг?
Мозг – это не просто серое вещество в черепной коробке. Это миллиардная сеть из нейронов. Сто миллиардов нейронов, если быть точным. И эти нейроны не живут поодиночке. Они не умеют работать в одиночку. Их смысл и сила – в соединениях. В связях. В цепях и сетях. Именно через них они общаются друг с другом. Именно через них рождается всё: движение, память, эмоция, речь.
Часть этих связей задана генетически. Например, работа сердечно-сосудистой системы, терморегуляция, дыхание, гормональный фон – всё это идёт по заранее встроенным маршрутам. Это основа, выданная природой.
Но всё остальное, всё, что делает людей уникальными, – каждый человек строит сам. В течение своей жизни. Из оставшихся нейронов. Из опыта. Из эмоций. Из реакций. Из потребностей. И другой такой нейронной сети, как у вас – не существует.
Что же запускает эти соединения? Что толкает нейроны искать друг друга?
Потребность.
Одна из самых глубинных тем в нейронауке – это нейрофизиология потребностей. То, о чём писал Абрахам Маслоу, имеет под собой не только психологическую, но и чисто биологическую основу. Потому что каждая потребность человека – от самой примитивной, как голод, до самой сложной, как любовь или смысл – запускается изнутри, из определённых зон мозга. Эти зоны эволюционно закреплены. Эти программы встроены в нас задолго до рождения.
Они «инсталлируются» в мозг плода уже в утробе. Это инстинктивный код. Это язык наших нейросетей. Речь идёт о потребности в безопасности, в пище, в исследовании, в заботе, в тепле, в контакте.
Каждая из этих потребностей запускает определённое поведение. Малыш голоден – он кричит. Малыш боится – он прижимается. Малыш чувствует интерес – он тянется и ползёт. Это не осознанно. Это программа. И если поведение приводит к результату – появляется позитивная эмоция. «Получилось».
А если нет? А если не получилось, или ещё хуже – если потребность даже не была распознана?
Тогда в мозге накапливается напряжение. Энергия. Негативная эмоция. Она не исчезает. Она сохраняется в специальных зонах мозга. Она ждёт. Она будет жить внутри до тех пор, пока не получит возможность быть отыгранной. Найти выход. Найти смысл. Быть означенной. Это не поэзия. Это физика. Энергия должна перейти в работу. Эмоция – это всегда маркер того, насколько успешно потребность была удовлетворена.
И это – начало формирования психики. Не из мыслей. Не из слов. А из напряжений, попыток, удач, неудач, и того, как на них реагирует мир.
Развитие младенца начинается задолго до того момента, как он сделает первый вдох. Оно начинается ещё до его рождения – в глубинах тишины материнского тела. Уже на втором месяце внутриутробного развития эмбрион способен реагировать на прикосновение. К концу третьего месяца он нащупывает позу, в которой ему удобно быть, а к четвёртому – он уже двигается. И да, он слышит. Он слышит мир. Он слышит голос матери, доносящийся изнутри, голос отца, проникающий сквозь ткани и шумы, но главенствующий звук – это ритм сердца. Это биение. Постоянный, живой метроном, сигнал безопасности. Пока сердце бьётся ровно – всё в порядке. Пока оно не сбивается – жизнь возможна.
Именно в эти недели формируется фундамент – не просто тела, но всей психики. И этот фундамент не принадлежит только ребёнку. Он общий. Он общий с матерью. Потому что психика ребёнка на этом этапе ещё не автономна. Она формируется в тандеме. Она буквально инсталлируется через мать. Через её эмоциональные состояния. Через её страхи, её радости, её тревоги. Через то, как она чувствует.
И вот здесь начинается то, что большинство даже не подозревает. Мать – без своего на то ведома – начинает возвращаться в своё собственное младенчество. В третий триместр беременности женщина проходит внутренний путь назад. Неосознанно. На уровне глубинных слоёв своей психики. Её мозг вытаскивает наружу – в мягком, почти медитативном режиме – то, что было запечатлено в её собственном перинатальном опыте. Потому что только так она может подготовиться к пониманию младенца. Только так она сможет быть с ним синхронной в невербальном мире.
Если этот её опыт был травматичным, если нейронные сети, отвечающие за раннюю регуляцию, были сформированы хаотично или с дефектом, то она не сможет по-настоящему понять своего ребёнка. Она будет рядом, да. Она будет любить, может быть, даже сильно. Но это не та любовь, которая утешает. Это будет эмоциональная связь, но лишённая устойчивости. Без той самой надежности, предсказуемости, постоянства, которые так отчаянно нужны ребёнку в первые месяцы жизни.
Что делает малыш в такой ситуации? Он остаётся с тревогой один на один. А она – невыносима. Настолько, что он вынужден защищаться. Единственный доступный способ – разделить нейронные сети, как бы раскидать тревогу по разным частям мозга, снизить её мощность. Это биологическая защита. Но это и корень будущей диссоциации. Это начало множества личностей внутри одного тела. Это начало возможности диссоциативного расстройства.
А если тревога достигает слишком высокой амплитуды, если мама, сама испуганная и нецелостная, буквально возвращает ребёнку его же страх, ещё приправляя его своим, уже взрослым, тогда всё становится ещё страшнее. Потому что тогда – на чисто биологическом уровне – психика малыша принимает решение: «так выжить нельзя». И она начинает уничтожать. Она начинает сжигать. Она разрушает нейроны, которые передают эту невыносимую боль. Это не выбор. Это не болезнь. Это – способ спастись. Цена – аутизм.
Это происходит тихо. Без криков. Без слов. Никто не замечает в моменте. А потом, когда ребёнок «не такой», когда он не смотрит в глаза, когда не реагирует на голос, – уже поздно спрашивать, что случилось. Это случилось тогда, когда взрослые ещё не подозревали, что с ребёнком уже всё происходит.
Средний мозг. Самый маленький из всех, всего два сантиметра длиной. Его легко упустить из виду, особенно в контексте грандиозной архитектуры человеческого мозга. Но это – та самая крохотная структура, без которой психика человека просто не смогла бы состояться.
Если сравнить: продолговатый мозг – три сантиметра, мост – тоже три. А вот средний мозг скромно втиснулся между ними, расположившись между мостом и промежуточным мозгом. Он крошечный, да. Но по своей функции – фундаментальный. Он относится к стволовым структурам мозга – тем самым, что первыми включаются в работу, когда жизнь только зажигается, и последними гаснут, когда она уходит.
Внутри этого двухсантиметрового участка расположены нейроны, которые отвечают за базовые, но глубочайшие вещи. Контроль воли. Контроль эмоций. Реакции, обеспечивающие выживание. Та самая мгновенная реакция – уйти от опасности – закладывается именно здесь. Страх. Самозащита. Инстинкт.
И неудивительно, что именно эта система – система страха – начинает созревать одной из первых. Её локализация – в промежуточном мозге, чуть выше среднего, но их работа неразрывно связана. Средний мозг выступает как стартовая площадка, как точка фокусировки. Мы не осознаём, как именно в самые первые месяцы, а иногда даже недели жизни, впитываем в себя карту опасностей мира. Ребёнок учится бояться без слов. Без объяснений. Просто на уровне ощущений. Эти первые фрагменты опыта становятся эмоциональной географией – базовыми координатами безопасности и тревоги.
Теперь – внимание. Сейчас мы сделаем шаг в сторону очень хрупкой темы. Психопатологии. Тех состояний, о которых часто говорят шёпотом. Таких, как аутизм. И вот здесь маленький средний мозг неожиданно выходит на передний план. Потому что именно в его структуре начинает формироваться одна из важнейших способностей человека – эмпатия. Не сочувствие. Не жалость. А способность чувствовать другого. Увидеть другого. Считывать другого. Понимать без слов.
Эта зона эмпатии начинает созревать рано, но окончательно формируется к 10–12 годам. Именно она в будущем станет нашим эмоциональным навигатором. Тем, кто скажет человеку, где больно, где страшно, а где – по-настоящему хорошо. Где человек, а где – угроза.
В анатомии это называется четверохолмьем. Удивительное слово. Его можно было бы сравнить с каким-то древним архитектурным термином, но это – часть твоего мозга. Сенсорные центры. Самые первые, эволюционно. Передняя пара холмиков – зрение. Это то, как мозг реагирует на зрительные сигналы. И именно здесь кроется объяснение, почему ребёнок с расстройством аутистического спектра не смотрит в глаза. Потому что глаза – это мощнейший стимул, это концентрация изменений, это контакт, который требует огромного внутреннего ресурса, особенно если тревога не утихает.
Всё начинается с этих зрительных нейронов. Им, по сути, всё равно, что вы видите. Главное – что что-то изменилось. Движение. Контраст. Мелькание. Это – сигналы новизны. И мозг немедленно реагирует. Поворачиваются глаза, следом – голова, а за ней – всё тело. Это древнейшая реакция, рожденная миллионами лет эволюции. Любопытство. Любопытство как инструмент выживания.
Ребёнок, у которого нарушено взаимодействие с этим уровнем мозга, не может “удерживать” взгляд, но может часами рассматривать спицы колеса, которые крутятся. Или водить пальцем по краю предмета. Потому что эти элементы активируют зрительные детекторы новизны. Они простые. Они понятные. Они дают мозгу ощущение контроля. И самое главное – они хоть как-то помогают справляться с фоновым, почти всегда присутствующим уровнем тревоги.
Вот он, парадокс: деталь игрушки, колесо, вертушка, отражение в стекле – становятся якорем, способом дать себе ощущение “я здесь”, “я вижу”, “я могу реагировать”. И за этим стоит не каприз, не отстранённость, не холод. А отчаянное стремление мозга справиться с хаосом, с непереносимой перегрузкой, с миром, который не даёт передышки.
Именно в этом крошечном, двухсантиметровом участке мозга зреет первая искра интереса. Первая способность к ориентировке. Первая проба – выдержать новизну. И если всё складывается, эта искра перерастает в способность встречаться с другим – лицом к лицу. Без страха. Без отключения. С интересом.
Именно здесь закладывается возможность сказать: “Я вижу тебя”.
Нижние холмики четверохолмья – это слуховые центры. Незаметные, скрытые глубоко в толще средний мозг, но играющие огромную роль в формировании эмоциональной безопасности человека. Обработка звуков начинается раньше – в продолговатом мозге и мосту, где расположены ядра восьмого черепно-мозгового нерва, отвечающего за слух. Но затем сигнал передаётся вверх – в эти самые нижние холмики. И там происходит ключевое: мозг фиксирует новизну.
Изменился ли тон? Прозвучало ли что-то неожиданное? Что-то зашуршало в стороне? Всё это – сигналы. И если они отличаются от привычного фона, то мгновенно запускается ориентировочный рефлекс. Глаза, голова, тело поворачиваются в сторону звука. Человек ищет источник. Это древняя, мощная система выживания, встроенная в организм с рождения. И одна из первых реакций страха – это реакция на резкий звук. Это инстинктивная настороженность, граничащая с паникой. Человек от природы боится громких, неожиданных звуков.
А если ребёнок не может справиться с этим потоком сенсорных сигналов? Если его нервная система перегружена? Тогда это вызывает тревогу. И именно так это часто происходит у детей с расстройствами аутистического спектра. Их мозг не выдерживает звуковой новизны, не успевает переработать её, не может её интерпретировать. Каждый новый звук – как сигнал тревоги. Неясный, чужой, непереносимый.
Теперь давайте сделаем шаг ещё глубже. В сторону эмпатии.
В мозге человека есть класс особенных нервных клеток – зеркальные нейроны. О них сегодня говорят всё чаще, и, по праву, они занимают почётное место в разговоре о развитии психики. Эти нейроны активируются не только тогда, когда человек сам что-то делает, но и тогда, когда он наблюдает, как это делает другой. Он улыбается, видя улыбку. Он плачет, слыша плач. Он чувствует боль другого человека – телесно, нервно, по-настоящему.
Именно зеркальные нейроны лежат в основе того, что называется взаимной регуляцией. То самое, что делает любовь матери и ребёнка неразрушимой связью, а не просто биологическим инстинктом.
Мама улыбается. Мозг младенца активирует зеркальную сеть, повторяя её эмоциональное состояние – и он тоже улыбается. И в этот момент происходит нечто большее, чем просто мимический ответ. Происходит встреча. Настоящая встреча – эмоциональная, телесная, психическая. Улыбка в ответ – это признание связи, это момент, когда малыш говорит миру: “Я здесь. Ты видишь меня?”
И это важно. Потому что привязанность новорождённого – не просто механизм выживания. Это не банальная зависимость. Это экзистенциальная потребность быть увиденным и признанным. Любовь младенца к матери – сродни самой глубокой форме романтической любви, которую люди способны испытывать во взрослом возрасте. Это не поэтическая метафора. Это физиология. Это фундамент, на котором потом строятся все будущие отношения – интимные, дружеские, даже профессиональные.
И если этот фундамент треснул… если мать не в состоянии быть зеркалом… если она занята собой, своими страхами, проекциями, нереализованными ожиданиями… ребёнок не увидит в её глазах себя. Он увидит её боль. Её тревогу. Её утомлённость. Её отчаяние. Но не себя. И тогда он остаётся без отражения.
Нет зеркала – нет образа себя. Нет связи – нет уверенности, что я есть. А если меня не видят, если я – лишь проекция, я становлюсь брошенным. Даже если физически меня держат на руках.
Это тонко подметил Дональд Винникотт. Он писал: «Мать держит ребёнка, он вглядывается в её лицо… и обнаруживает там самого себя». Но это возможно только в одном случае – если мать действительно видит его. Не того, кем он должен быть. Не того, кого она придумала. А его – беспомощного, уникального, реального.
Если же в её глазах – только её мечты, её тревоги, её предательства и боль… Ребёнок видит в матери её саму. И остаётся невидимым. И тогда он запоминает: «Меня не существует». Именно так рождается эмоциональное одиночество, даже в руках любящей, но не чувствующей матери.
Это не просто теория. Это жизнь.
Когда мать держит своего новорождённого ребёнка, улыбается ему, произносит ласковые звуки – всё это не просто моменты нежности, это архитектура будущей психики. Визуальные сигналы – её лицо, глаза, мимика. Аудиальные – интонация, ритм, тембр её голоса. Обонятельные – её запах, такой родной и безопасный. И, конечно, тактильные – тепло кожи, давление руки, ритм биения сердца. Все эти сигналы формируют определённый паттерн нервной активности в младенческом мозге. Мозг ребёнка, словно музыкальный инструмент, настраивается на мать.
И, что удивительно – те же области мозга, которые задействованы у матери в момент её активности, начинают активироваться у ребёнка. То есть, когда она улыбается – его мозг тренируется на умении улыбнуться в ответ. Когда она гладит – он учится воспринимать прикосновение не как хаос, а как смысловую реальность, наполненную значением: «это приятно», «это я», «это мама», «я есть». Таким образом, мозг ребёнка формируется через взаимодействие. Через многократную, предсказуемую, повторяющуюся стимуляцию от самого важного объекта – матери.
Первая и самая фундаментальная задача младенца – наладить управление внутренними системами. Это работа не столько осознаваемая, сколько вегетативная, автоматическая. Сердцебиение, дыхание, температура, уровень сахара в крови. Тело учится жить. И только потом, через переживания, отклики и зеркала, в него приходит опыт взаимодействия с внешним миром – через эмоции. Эмоция – это, по сути, язык тела, который только начинает обретать смысл в присутствии другого.
В этот критический период – в течение первого года жизни – мозг ребёнка увеличивается более чем вдвое. Количество нейронов, как вы уже знаете, задано при рождении. Новых клеток почти не добавляется. Но начинается другая, гораздо более важная работа – соединение. Нейроны ищут друг друга, создают синапсы, строят нейронные сети, которые будут основой для всего последующего: от умения различать лица до способности сочувствовать и любить.
Особенно бурный рост происходит в префронтальной коре, той самой части мозга, что позже станет «местом» Я, центром осознанных решений, местом торможения импульсов, домом для мышления. С 6 до 12 месяцев количество синапсов в этой области увеличивается в геометрической прогрессии. Это совпадает с периодом, когда отношения между матерью и ребёнком достигают пика своей эмоциональной насыщенности. Это время, когда формируется надежная привязанность.
Привязанность – это не просто «мама рядом». Это нейрофизиологическая реальность. Это сеть. Это структура, обеспечивающая безопасность переживаний. К концу первого года жизни этот этап – этап подготовки – завершён. И наступает новый.
Теперь мозг начинает отсеивать лишнее. Как садовник, он убирает всё, что не прижилось. Всё, что не повторяется, не используется, не актуально для текущего опыта. Это процесс, который в науке называется синаптической обрезкой. То есть, если какое-то соединение между нейронами не используется, оно разрушается. Зачем тратить ресурсы на путь, по которому никто не ходит?
И, наоборот – те маршруты, которые используются постоянно, те эмоциональные паттерны, которые повторяются изо дня в день – становятся магистралями. Мозг закрепляет их. Он начинает структурировать опыт. Начинает рисовать карту – как реагировать на мир, кому доверять, как понимать эмоции, какие сигналы безопасны, а какие тревожны.
Если этот опыт – устойчивый, наполненный поддержкой, теплом, предсказуемостью – тогда и карта будет цельной. Тогда и ребёнок будет постепенно учиться распознавать, классифицировать, называть свои состояния. Если же опыт хаотичный, если мать непоследовательна, отстранённа, холодна или сама погружена в тревогу – тогда карта мира размыта. А чувство «я есть» – неустойчиво.
Есть, конечно, и исключения. Некоторые события так взрывоопасны, так эмоционально заряжены, что записываются моментально, независимо от возраста. Даже если ребёнок не может их осмыслить, не может рассказать о них словами – его миндалина уже сделала свою работу. Именно амигдала, или миндалина мозга, – это центр мгновенного реагирования, особенно в опасных ситуациях. И если сигнал угрозы был слишком сильным, он сохранится. Надолго. Навсегда. Как тревожный след в теле, как неосознанная реакция на триггер, как воспоминание, к которому нет доступа, но есть ощущение.
И вот здесь – самая тонкая грань: то, что договорились называть психикой, рождается не из слов, не из понятий. Оно вплетается в ткань мозга через опыт, через присутствие другого, через тело.
Вербальное формирование ребенка
Ребёнок лежит в кроватке. Он ещё не говорит. Он не умеет просить, не умеет описывать, не умеет даже осознавать, что именно с ним сейчас происходит. Но он уже чувствует. Он чувствует голод, холод, скуку, напряжение. И если этот крошечный человек остаётся один на один с этим чувством – оно становится вселенной. Не чувством. Вселенной. Неудобство превращается в катастрофу. Одиночество – в конец света. Потому что внутри него нет ещё никаких инструментов, чтобы назвать происходящее. Он не может сказать себе: «Я голоден», или «Я устал». Для него всё это – просто невыносимое, необъяснимое, необозримое «плохо».
И вот здесь появляется она. Мама. Или другой взрослый, значимый взрослый, но чаще всего – всё-таки мама. Она подходит, поднимает ребёнка, прижимает к себе, смотрит в его глаза. «Ты голоден?» – говорит она. «Ты расстроился? Ты испугался?»
И, казалось бы, просто говорит. Слова. Но в этот момент она делает нечто гораздо большее. Она даёт ребёнку первые опоры. Она выстраивает внутри него лестницу между телом и словом. Между ощущением и сознанием. Между импульсом и смыслом. Она берёт его неоформленное, хаотичное внутреннее переживание – и облекает его в речь. Она даёт этому переживанию имя.
Так начинает рождаться «Я».
Речь – это не просто способ общения. Это – архитектура сознания. Это способ быть с собой. Это способ увидеть себя. И для маленького человека, который только начинает складывать из кусочков своего опыта первое, зыбкое представление о том, кто он есть, эти первые слова матери становятся инструментами самопонимания.
Когда взрослый рядом помогает ребёнку называть то, что с ним происходит, – у ребёнка внутри начинает собираться зеркало. Это зеркало сначала находится снаружи – в лице, в голосе, в реакциях взрослого. Но постепенно оно начинает встраиваться внутрь. Начинает отзеркаливать не внешний мир, а внутренний. Речь становится той внутренней матерью, которая всегда рядом и всегда может сказать: «С тобой всё в порядке. Ты чувствуешь. Ты жив. Ты имеешь право на это чувство».
Это критический момент – момент начала вербализации эмоций. Потому что до этого у ребёнка есть только тело и чувства. Но нет осознанности. Нет пространства между импульсом и действием. Если больно – кричать. Если обидно – бить. Если страшно – прятаться. Всё инстинктивно. Всё напрямую. И пока нет языка – нет возможности выйти из тела в смысл. Нет возможности почувствовать: «Я не боль», «Я не страх», «Я не злость». Есть я, который это чувствует. Я – субъект.
Именно в этом месте начинается психика как личностный, осознающий слой. Именно здесь, на границе телесного и речевого, начинает прорезаться контур самости. Именно здесь рождается то, что принято называть внутренним Я. И начинается его долгий путь – путь оформления, укрепления, наслоения, созревания.
В следующих частях этой главы с вами пойдём ещё глубже: как именно формируется связь между эмоцией и словом, что происходит, если этого процесса не происходит, как страдают дети, которых не научили называть свои чувства – и как взрослые потом несут эту немоту сквозь всю жизнь, пока не начинают лечиться не от болезни, а от невыговоренного.
Это один вариант. Самый здоровый. Самый жизненный. Самый тёплый. Когда материнское «Я тебя люблю» ложится в сердце ребёнка как подтверждение: «Ты есть. Ты важен. Ты понят. С тобой считается твой мир. Я рядом». Даже если он не может пока воспроизвести ни одного слова, в его теле уже формируется язык – не слов, а значений. Звук, интонация, взгляд, прикосновение – всё это становится первыми словами той книги, которую он только начнёт читать через несколько лет. И в этой книге на первой странице будет написано: «Ты существуешь. Ты не один. Ты любим».
А теперь представим второй вариант. Мама молчит. Она может быть уставшей. Раздражённой. Может считать, что всё и так понятно. Или, быть может, сама выросла в семье, где никто не говорил, никто не называл, никто не объяснял – и она просто не умеет иначе.
И тогда ребёнок остаётся наедине с собой. С тревогой. С бессилием. С неразрешённой ситуацией. И он учится. Учится не понимать. Учится обходиться без смысла. Учится, что чувство – это просто что-то, что нужно пережить, затолкать внутрь, проглотить. Это становится опытом. Первым опытом. Он не назван, но записан. Записан телом. Записан психикой. Записан в виде схемы: «чувство возникает – ответа нет – тревога остаётся».
Так в ребёнке формируется тишина. Но не та, что убаюкивает, а та, что отрезает. Эта тишина – пустота между стимулом и ответом. Между тревогой и её пониманием. Между желанием и его принятием. В этой тишине потом будет очень сложно различить: а что я вообще чувствую?
Потому что чтобы чувствовать – нужно быть уверенным, что твоё чувство имеет смысл. А он не родился.
И вот, ребёнок растёт. Ситуации повторяются. Каждый день – маленький эпизод эмоционального романа между ним и его реальностью. Только вот роман может быть написан как на родном языке, где каждое чувство находит своё имя, свою фразу, свою обёртку из принятия. А может быть как абстрактная симфония на неизвестном наречии, где всё звучит, но непонятно.
Появляются слова. Сначала – простые. Потом – осмысленные. Речь начинает формироваться. И тут наступает магический момент: если первые эмоциональные переживания были названы и признаны, они поднимаются из глубины и находят свои слова. «Я голоден», «я боюсь», «я устал», «я злюсь» – это не просто слова. Это якоря. Это ручки на дверях, ведущих в себя.
А если они не были названы – то начинают появляться другие слова. Из фильмов, из улицы, из чужих эмоций. Но они не ложатся. Они не соответствуют внутреннему. Они – как костюм не по размеру. Так формируется ложное «я», поверх нерождённого. Наружное. Обученное. Но не живое.



