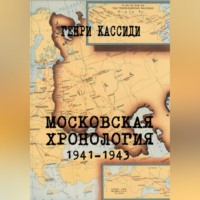Полная версия
Московская хронология 1941-1943
Полуденное солнце обжигало. Немного полежав, чтобы высохнуть, я оделся и направился обратно в отель.
К ланчу ситуация с едой явно нормализовалась. Завтрак подали ровно в 9 утра: фрукты, хлеб, кофе – и лишь скромные дополнения в виде тарелочки икры и порции печёнки. На ланч в мою каморку над столовой принесли блюдо с курицей, рисом, жареной картошкой и огурцами – порция была как раз моего размера. Мне повезло обменять бутылки шампанского и мадеры на стакан молока.
Так прошла ровно неделя еды, сна, купания и чтения.
Во второй раз я едва не искупался в компании голых дам. Я вернулся к тому же ограждению, где был накануне, и уже собирался войти, когда услышал из-за забора женские голоса, кудахтавшие, как куры на дворе. Встав на цыпочки, я заглянул через забор и увидел множество розовых одежд на вешалках и белые тела, распластавшиеся на скамейках. Я быстро пригнулся и прочитал табличку: сегодня этот участок был отведён для женщин, а соседний – для мужчин. В этой стране равноправия полов даже купальные зоны ежедневно менялись.
Я спустился на мужской пляж, натянул плавки и быстро зашёл в воду. На соседнем участке в тот день было больше женщин, и их купальные костюмы стали ещё скромнее. Особенно элегантная купальщица в шляпе и с тесёмкой на груди, и ничего более, спокойно дошла до воды и села, погрузившись по пояс. Другая девушка, вообще без одежды, проплыла примерно сто ярдов к лодкам с парнями, поболтала с ними и потом поплыла назад к берегу.
Я лежал под полуденным солнцем, когда пожилая женщина в соломенной шляпе и белом платье в сопровождении девушки-компаньонки шла по пляжу, беседуя с мужчинами. Она подошла ко мне и сказала: «Не слишком ли долго вы лежите на солнце». Я ответил: «Нет». Она спросила: «У вас нет ничего, чтобы накинуть на плечи?» Я ответил: «Нет». Она сказала: «Вы сгорите».
Разговор был неловким. Ряды голых мужчин слушали нас, и, хотя я был в плавках, я чувствовал себя голым. Чтобы положить этому конец, я сказал: «Я не понимаю по-русски».
Пожилая женщина подбоченилась и потрясенная сказала: «Вы не понимаете по-русски?!»
«Нет», – ответил я.
«Тогда откуда вы?» – спросила она. «Из Америки», – сказал я.
«Ах из Америки!» – сказала она. «Так вот, не находитесь на таком солнце больше двух минут, а то сгорите.»
Девушка похлопала меня по плечу и сказала: «Сгоришь.»
Решив, что мои две минуты истекли, я слез со скамейки и вернулся под навес. Тут же появились две старухи с вёдрами, собирающие мусор. Четыре женщины одновременно – это уже слишком. Я оделся и ушёл в отель.
В тот полдень горничная задержалась во время уборки, осторожно посматривала в мою сторону и наконец подкралась к столу, где я читал театральный раздел воскресной New York Times. Она ткнула пальцем в фотографию на всю полосу из мюзикла «Приятель Джои», с изображением красивых пар, танцующих на сцене, – и спросила: «Что это?»
«Оперетта», – ответил я, подобрав ближайшее подходящее слово в Русском для музыкальной комедии. «Они артисты?», спросила она. «Да», – сказал я. Она вздохнула и долго разглядывала фотографию.
Затем ей, видимо, захотелось блеснуть своими собственными познаниями. Она указала на веранду, где пара ласточек свила гнездо из глины в углу крыши – с маленьким входом с внутренней стороны, обращённым к моему окну и защищённым от морских ветров. Птицы суетились, то забираясь внутрь, то высовывая свои белые мордочки с чёрными шапочками, чтобы оглушительно щебетать и клевать любых незваных гостей, пытавшихся уцепиться за стенки гнезда. «Их двое», – сказала горничная. Я кивнул. «Скоро их будет больше», – добавила она. На этом уборка была закончена, и она ушла.
В один пасмурный день я отправился в город, чтобы посмотреть Сочи. Никогда прежде мне не доводилось видеть подобного курортного города. Здесь не было ни лотков с хот-догами, ни танцзалов, ни сувенирных лавок, ни каруселей, ни ярких пляжных зонтов, ни казино, ни детских ведёрок и лопаток – ничего из того, что можно встретить на американском или европейском побережье. Это был обычный русский город с пляжами по краям, пристанью посередине и магазинами вдоль главных улиц.
За пляжем располагалось футбольное поле, где тренировалась команда, и спортивный парк где играли в теннис и волейбол. По парку тянулись длинные дорожки.
У подножия Кавказа, возвышаясь над городом, стояли массивные здания – в прошлом фешенебельные отели, а ныне санатории. И здесь «санаторий» означал не лечебное учреждение для больных, а место для здоровых, призванное сохранять их здоровье. Вся эта обстановка – тёплое солнце, чистый воздух, морская вода и свежесть сельской местности – была создана для здоровья.
Поначалу это казалось странной идеей для курорта. Но потом – вполне разумной. Возможно, даже лучше, чем у нас. Во время второй экспедиции в город, чтобы сделать несколько фотографий, я получил море удовольствия: меня арестовали.
На вершине холма, возвышающегося над городом, стояли статуи мужчины и женщины, подбрасывающих мячи – они обозначали въезд в Сочи. Я выбрал общий план города со статуей женщины на переднем плане, и зашёл за неё, чтобы сделать снимок. Тут подошли пару беспризорников, размахивая руками и стуча себя в грудь перед камерой, чтобы я их сфотографировал. Я подождал, пока они уйдут. И потом появился милиционер – тоже размахивал руками, но не для фото, а для меня.
– Что вы делаете? – воинственно спросил он.
– Фотографирую, – ответил я.
– Что именно? – продолжил он. – Вот эту статую, – сказал я.
Он с подозрением посмотрел на тыльную сторону статуи, а затем – с ещё большим подозрением – на меня.
– Кто вам разрешил фотографировать?
– Никто, – ответил я.
– Покажите документы.
– Они в отеле.
Тогда он махнул рукой, чтобы я следовал за ним, и мы спустились с холма по боковой улочке к участку милиции.
В прихожей буянил пьяный, за которым присматривал милиционер. В передней комнате истощённая молодая женщина, прижимая к обнажённой груди младенца, отвечала на вопросы офицера за столом. Меня провели мимо них в задний кабинет, где повторился тот же диалог, после чего велели ждать в коридоре.
Через некоторое время мы поднялись наверх к начальнику – дородному, светловолосому, добродушному мужчине в белой форме.
– Здравствуйте, – сказал он. – Садитесь.
Начальник, похоже, лучше других понимал художественную ценность тыльной части женской статуи. Он сочувственно кивал, пока я объяснял, что произошло.
– Фотографировать статуи и красивых девушек крупным планом можно, – сказал он. – Но снимать город и гавань запрещено. Если хотите – спросите разрешения у нас. На этом всё.
Милиционер проводил меня к выходу. Худшее, что я ожидал-потеря плёнки, но её даже не потребовали. Зато я получил возможность увидеть изнутри как работает Советская милиция.
Это случилось 21 июня. Вернувшись в номер, я обнаружил, что горничная ошиблась насчёт новых птенцов. Три маленьких яйца были разбиты на бетонном полу веранды. А вокруг гнезда шумела стая наглых воробьёв.
Это было похоже на притчу. Ибо другие жестокие птицы уже собирались у ближайшей границы, чтобы той же ночью вторгнуться в чужое гнездо.
Глава 3. Иван идет на войну
Ровно на один день позже, чем Наполеон, Гитлер вторгся в Россию – 22 июня 1941 года. Помимо этой даты, несмотря на все попытки сравнения, между кампаниями французского императора XIX века и немецкого фюрера XX века было мало общего. Наполеон двинулся на Москву с мобильной колонной, развернулся и отступил обратно. Гитлер же обрушил на Россию огромные силы, остановился у самых подступов к Москве и увяз в схватке до конца.
Когда это началось, в тот роковой воскресный день в 4 часа утра, сто семьдесят дивизий численностью более двух миллионов человек, с десятью тысячами танков и десятью тысячами самолётов, были брошены против Советского Союза. Вместе с ними смерть и разрушение вошли в южные степи, в западные леса и в тундру севера России.
Вторжение застало Советы врасплох. Несмотря на все сигналы тревоги и предупреждения, они не были готовы. Неожиданно бомбы обрушились на Киев, Севастополь, Каунас, Житомир и другие важные города тыла. Снаряды посыпались на Брест-Литовский, Белосток и другие приграничные города. Пограничные посты были стремительно сметены. Атака была настолько внезапной, что молодые лётчики метались по аэродромам в поисках старших офицеров, чтобы получить приказ на взлёт, в то время как сами уже подвергались бомбардировке. И многие из высших офицеров армии и флота, а также государственные чиновники в тот момент находились в отпуске, вдали от своих постов.
Лишь в 5:30 утра, полтора часа спустя после начала вторжения, граф фон дер Шуленбург обратился к народному комиссару иностранных дел Молотову в Кремль, чтобы сообщить ему, что Германия начала войну против Советского Союза из-за концентрации войск Красной армии у германской границы. Лишь в 12:15 дня советский народ узнал из радиовыступления Молотова, что на страну напали без каких-либо предварительных требований, без объявления войны.
На границе царил хаос. В небе выли пикирующие бомбардировщики. Парашютисты сыпались на землю. Гремели гусеницы танков. Автоматчики дико неслись на мотоциклах. В грузовиках ехала мотопехота. За этими сверкающими мечами блицкрига следовали щиты – бесконечные колонны людей и лошадей, накрывая всё мраком оккупации, отвратительным кошмаром, которому суждено было продлиться много долгих ночей.
Первые направления наступления вермахта, согласно ставке Главного командования Красной армии, были Шяуляй, Каунас, Волковыск, Владимир-Волынский, Рава-Русская и Бродск(Броды) – с севера на юг, между Балтийским и Чёрным морями. На самом деле они двигались во всех направлениях, шли по всем дорогам, тропам и перевалам через границу, кишащим роем заполняя собой Россию.
Повсюду царила неразбериха. 23 июня Красная армия признала падение Брест-Литовска, хотя он пал лишь на следующий день. Прачка, увидев немцев, бросила бельё и, вытерев руки, схватила винтовку, помогла одному пограничному посту сдерживать врага, затем вернулась в гарнизон и привела подкрепление. Этот пост держался целый день. 99-я пехотная дивизия Красной армии под командованием полковника Якова Крейзера отступила из Перемышля в Старой Польше, затем перешла в контратаку и отвоевала город. Они удерживали его до приказа об отступлении, но все близлежащие пограничные посты пали один за другим.
У линии фронта из громкоговорителей неслись приказы: мобилизация мужчин в возрасте от двадцати трёх до тридцати шести лет в четырнадцати западных военных округах, меры предосторожности при воздушных тревогах и газовых атаках, введение осадного положения по всей территории Европейской России. В ту ночь, как и во всех других городах Европы до этого, огни России погасли.
И вот так, против своей воли, Россия превратилась в Армагеддон.
То, что на первый взгляд казалось очень плохим, на деле оказалось очень хорошим, мне повезло наблюдать начало войны не из Москвы, а с мирной, залитой солнцем террасы отеля «Ривьера» в Сочи. Это было прекрасное воскресенье, согретое солнцем, свежее после дождя, прошедшего вслед за бурей накануне. Чёрное море с шумом разбивалось о волнорез и заливало водой бетонную набережную. Война уже шла несколько часов, но у меня не было ни малейшего предчувствия этого, когда я сидел на холме над пляжем и смотрел на волны.
Утром мне пришла телеграмма из Москвы: «Вылетайте немедленно». Я без особого интереса гадал, о чём идёт речь – что-то личное или деловое. Уитт Хэнкок, мой предшественник в Москве, вроде бы собирался проехать через Москву, в случае если его отзовут из Турции. На этот случай я оставил записку, что вернусь в Москву, чтобы встретиться с ним. Наверное это и было причиной для телеграммы. Конечно, я бы поехал, но спешить было некуда – ближайший рейс только на следующий день. Но причина телеграммы оказалась деловой. Уитт Хэнкок, вместо того чтобы вернуться домой, продолжил путь в Индию и Батавию, чтобы потеряться на Яве. А я возвращался на войну.
Когда я шёл с пляжа через сад, я увидел толпу, собравшуюся у громкоговорителя перед отелем. Из него доносился ровный, бесстрастный голос. Это был Молотов. Он говорил:
Без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны немецкие войска напали на нашу страну, атаковали наши границы в нескольких местах и подвергли с воздуха бомбардировке наши города…
Это неслыханное нападение на нашу страну – вероломство, не имеющее себе равных в истории цивилизованных народов. Агрессия против нашего государства была совершена несмотря на то, что между СССР и Германией был подписан договор о ненападении, и несмотря на то, что Советское правительство честно соблюдало все его условия…
Вся ответственность за это хищническое нападение на Советский Союз полностью ложится на германских фашистских правителей…
Советское правительство отдало приказ нашим войскам отразить хищническое нападение и изгнать германские войска с территории нашей страны…
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
Когда он говорил, люди молча внимали, сначала в полном изумлении, а затем в ошеломлённом осознании. Несколько женщин тихо заплакали и отошли в сторону, но большинство стояли, как в трансе, потрясённые, а потом смиренно приняли ужасную новость. Я направился наверх в свою комнату и когда проходил мимо горничной по лестнице, она выдохнула: «Они напали на нас!».
Я чувствовал себя хуже, чем русские, потому что я был вдали от своего поста, и разворачивалась самая великая из всех историй. Я вспоминал все те мрачные предсказания, которые я слышал о России в случае войны: война продлится от трёх недель до трёх месяцев… немцы могут дойти до Москвы за пять дней… Москва будет стерта с лица земли одной бомбардировкой. Я мог не успеть вернуться вовремя.
Остаток дня я провёл в ожидании того, что не произошло. Я заказал телефонный звонок в Москву на 16:00 – он не состоялся. Мне сказали, что придёт человек с билетом на самолёт в Москву на следующий день в 21:00 – он не пришёл. Потом сообщили, что все рейсы отменены. Я оказался застрявшим на другом конце России, без дорог, ведущих в Москву, без возможности добраться туда не иначе как поездом. А последний поезд на Москву в тот день уже ушёл.
Произошло то, чего я не ждал. Пришёл посетитель. Он постучал в мою дверь, когда я лежал раздетым на веранде, принимая последнюю солнечную ванну и мечтая оказаться в Москве. Я надел халат и впустил его. Не говоря ни слова, он начал обыскивать комнату. Его напарник стоял на страже у двери. Я понял, что это были полицейские в штатском и промолчал. Мой гость – крепкий, молодой, но уже лысеющий паренёк, долго безуспешно что-то искал, а потом раздражённо спросил:
– Где это? – спросил он.
– Где что? – переспросил я.
– Эта камера.
– А, – сказал я, вспомнив свой визит в участок накануне, и достал свой советский ФЭД, похожий на «Лейку», из ящика стола.
Молодой человек резко раскрыл камеру, вытащил плёнку и засветил её на солнце. Потом внезапно спросил:
– А где вторая?
– Вторая что?
– Плёнка.
– Её нет, – ответил я. Это была правда.
– Есть. Она должна быть! – воскликнул он, топнув ногой, и продолжил обыск.
– Я ведь американец, а не немец, – сказал я как можно спокойнее. Мне не хотелось неприятностей.
Он кивнул в знак согласия, но продолжал искать. Через несколько минут, похоже, он поверил, что другой плёнки действительно нет. Он посовещался с напарником у двери, отсалютовал мне и ушёл. Я, как мог, ответил на салют, придерживая халат, и вернулся под солнце поразмышлять. Я решил, что этот визит – хороший знак. Если в городе был всего один иностранец, и если он накануне начала войны фотографировал без разрешения, то, по крайней мере, разумно было бы засветить плёнку – если не арестовать его.
В тот день произошла ещё одна неожиданность. Менеджер отеля попросил меня вскрыть телеграмму. Она была адресована на английском языке «Интурист, Сочи». Поскольку агентства «Интурист», по обслуживанию иностранцев, в городе уже не существовало, а я был единственным иностранцем и англоговорящим в Сочи, то, скорее всего, телеграмма предназначалась мне. На самом деле она была адресована Эрскину Колдуэллу и его жене, Маргарет Бурк-Уайт, которые находились в соседнем городе Сухуме. Отправителем был посол Стайнхардт из Москвы. В телеграмме он сообщал, что советует всем американцам немедленно покинуть Советский Союз, если у них нет серьёзных оснований оставаться. Это никак не улучшало мои перспективы.
В течение дня напряжение росло. В отеле ссорились и спорили. Но под всем этим ощущалась мощная волна решимости, даже энтузиазма по поводу начавшейся войны. Из громкоговорителей, установленных повсюду, гремели военные марши – их эхо разносилось по горам. Толпы людей становились всё больше, слушая повторы речи Молотова и свежие выпуски новостей. Иногда люди ликовали и аплодировали.
В ту ночь затемнение было введено с удивительной быстротой и чёткостью. В фонарях появились синие лампы, окна закрыли тёмными шторами, а горничная принесла в мой номер свечу.
На следующее утро, на второй день войны в России, я резко проснулся после беспокойной ночи и вскочил с кровати, чтобы заняться вопросом билета на поезд до Москвы. Я был знаком с этой привычной суетой в начале войны, когда люди спешат вернуться домой, объявлена мобилизация, поезда задерживаются на темных и переполненных путях. Нужно было торопиться и быстро уезжать, иначе можно было застрять надолго.
Первые новости были плохими. Из отеля позвонили на вокзал, и потом сообщили мне, что на сегодня билетов нет. Я пошёл на станцию вместе с носильщиком из гостиницы – он проскользнул в офис и вернулся с известием, что, возможно будет билет на завтра. То самое «завтра», что означает «маньяна».
Я вошёл в офис и произнёс перед офицером в форме Красной армии, должно быть, ужасно гротескную речь на плохом русском. Я сказал ему, что я американский корреспондент, что меня накануне вызвали вернуться самолётом, и поскольку самолёта нет, я должен уехать сегодня поездом. Я предъявил свой пропуск комиссариата иностранных дел и добавил: «С этим документом, я думаю, я могу сесть на поезд сегодня».
Офицер кивнул и сказал: «Можете».
Казалось, что этим всё и закончилось. Носильщик остался на вокзале, который уже заполнялся тревожными толпами за билетами, а я пошёл назад в гостиницу завтракать, по дороге заглянув в маленькое почтовое отделение в саду за отелем, чтобы отправить телеграмму в Москву с оповещением, что выезжаю.
На улицах маршировали отряды мужчин в гражданской одежде. Дома укрепляли. По городу ехали грузовики с солдатами. Город пустел – оставались только женщины и дети.
Я не мог не сравнивать это с Францией, которую видел меньше года назад. На дорогах не было потока беженцев. На самом деле, как мне ещё предстояло убедиться, передвигаться было крайне трудно. Не было и массового нервного кризиса: война нервов так и не добралась до этого отдалённого, невозмутимого народа.
Если русских победят, подумал я, то это будет не из-за нервов.
По дороге в гостиницу я спросил у одного мужчины, что передавали по радио утром.
«Мы наступаем», – сказал он.
В гостинице я получил новый шок. Носильщик позвонил и сказал, что, несмотря на мою утреннюю беседу перед завтраком, на вокзале ему отказались продать билет до Москвы. Передо мной снова возникла перспектива застрять в Сочи, а может быть, и последующего выдворения через границу в Иран или Турцию на юг, в то время как на моем посту на севере разворачивались события, которые потрясут мир. Если я не выберусь из Сочи сегодня, то уже не выберусь никогда. Поэтому я собрал вещи, оплатил счёт и под палящим солнцем потащился на железнодорожный вокзал.
К этому времени толпы людей уже располагались лагерями вокруг вокзала, окружённые бесформенными кучами вещей, свернутых в одеяла. На газонах сидели женщины, а их дети в возбуждении носились по траве. На тротуарах, в длинных очередях к кассам, стояли солдаты. Вокруг сновали офицеры флота в белом, армейские офицеры – в хаки. Место было осаждено.
Я протиснулся сквозь очереди к офису, в котором был утром. Он был заперт. Но на двери висела табличка, гласящая, что здесь будет дежурить офицер, ответственный за отправку солдат в мобилизационные центры, и несколько человек стояли в ожидании. Я ждал с ними. Вскоре дверь открылась, и солдаты, некоторые ещё в гражданской одежде, выстроились в очередь. Я встал за ними. Они проходили через кабинет, клали на стол свои мобилизационные карточки, называли пункт назначения – «Ростов», "Воронеж" или «Москва» – и получали билеты. Когда подошла моя очередь, я положил на стол свой пропуск комиссариата иностранных дел, сказал «Москва» и затаил дыхание. Офицер – тот самый, с которым я разговаривал утром – поднял глаза, усмехнулся и сказал:
– Ну ладно, – Русский эквивалент "Окей".
Я схватил билет и бросился к поезду, стоявшему на путях.
Я никогда раньше не ездил в русских поездах. Все мои передвижения по Советскому Союзу были либо на самолёте, либо на машине. Это должно было стать суровым посвящением в тайны советских железных дорог, потому что в купе, к которому меня приписали, уже стояли шесть человек. Двое мужчин средних лет, две женщины – по-видимому, их жёны – и двое молодых людей. И было всего четыре полки.
– «Ого, вот ещё один наш прибыл!» – рассмеялась женщина, и я понял, что ошибиться не мог. Это действительно было моё купе. Я бросил сумки и убежал обратно на перрон, оставив их разбираться, как делить четыре койки на семерых.
Догнавший меня носильщик предложил мне отправиться на поиски хлеба, но я отказался от мысли отходить от этого драгоценного поезда. Он вернулся спустя какое-то время со стаканом розовой газировки, но без хлеба – всё раскупила толпа, кишевшая вокруг вокзала. Когда солнце клонилось к закату, поезд тронулся – без предупреждающего свистка или колокола – и я вскочил на подножку.
Длинный, тяжело нагруженный поезд медленно гремел по хрупкой односторонней железной дороге, огибая побережье Чёрного моря в тени великих, покрытых снегом Кавказских гор, возвышающихся на востоке. Я стоял в коридоре и горячо молился о том, чтобы он продолжал греметь вперёд, пока не доберётся до Москвы. Но впереди было много остановок.
На каждой станции мы останавливались, чтобы подбирать новых пассажиров. Большинство из них были крепкими, загорелыми парнями – горцы, с винтовкой в одной руке и буханкой хлеба в другой. Они шли на войну с улыбкой, прощаясь с родными и друзьями, пришедшими проводить их. На деревенских станциях музыканты сидели прямо на тропинках и играли на аккордеонах. В городах их провожали под звуки боевых маршей, доносившихся из громкоговорителей над деревянными платформами. Повсюду они уходили весело.
В пурпурных сумерках поезд начал набирать скорость, покидая предгорья Кавказа, и пляжи Чёрного моря, уже окружённые колючей проволокой и патрулируемые вооружёнными людьми, таинственно проносились мимо. Пришло время ложиться спать.
Я прошёл по коридору в купе. Шестеро моих спутников сидели на нижних полках. Они ждали меня.
– Вы-там, – сказал один из мужчин средних лет, махнув рукой на верхнюю левую полку. Я забрался на неё, снял верхнюю одежду, залез под одеяло и подвинулся к стенке, глядя на неё и думая, сколько ещё человек будут спать на этой полке, на которой едва можно поместиться одному.
Внизу слышались возня, толчки и хихиканье, а затем погас свет. Я всё ещё был один на своей полке.
Рука коснулась моего плеча. Это был тот же мужчина средних лет.
– Вы будете один, – сказал он.
Я перевернулся и сквозь полумрак увидел, как он забирается на нижнюю полку со своей женой. Другая пара заняла вторую нижнюю полку. Двое молодых людей устроились наверху, напротив меня.
– Это-демократия, – сказал мужчина средних лет со своей полки.
На первой остановке следующим утром из поезда хлынул поток людей. Будучи неопытным новичком, я остался в постели, пока все не вышли, и лишь затем оделся. Когда я вышел в проход, поезд уже снова тронулся, и пассажиры столпились вокруг счастливчика, раздобывшего утреннюю газету.
Он зачитал коммюнике от 23 июня:
…направления Шауляй, Каунас, Волковыск, Коробинск(искаженное "Кобрин"), Владимир-Волынский, Рава-Русская, Бродск(Броды)…
В белостокском и брестском направлениях немцам удалось захватить города Брест, Колно и Ломжа… (некоторые названия городов Кассиди передаёт неверно, возможно на слух или по памяти).
– Наша территория? – недоверчиво спросил кто-то.
– Конечно наша территория.
Великий парадокс первого периода войны заключался в том, что, в то время как внешний мир ожидал, что немцы маршем пройдут через Россию за пять дней, три недели или, в крайнем случае, три месяца, сами русские рассчитывали, что врага остановят на границе или отбросят назад. Обе стороны были разочарованы. Красная армия, на которую русские двадцать лет жертвовали жизненными удобствами, и которую им представляли как силу, способную противостоять всему капиталистическому миру, не сумела сдержать немцев на границе. Но она сумела их остановить потом.