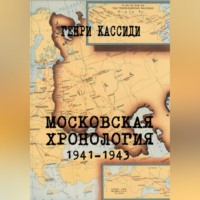Полная версия
Московская хронология 1941-1943
Но пока слухи о предстоящей битве разлетались по всему миру, русские отказывались верить в это – да и дипломаты тоже не могли поверить.
В этот период Сталин сменил Молотова на посту председателя Совета народных комиссаров (то есть главы правительства), и было очевидно, что лишь исключительные обстоятельства могли к этому привести.
Советская система всегда была двойственной: в принципе – совместное управление Советского правительства и Коммунистической партии, хотя на практике, конечно, партия доминировала. Однако указы, обращения и приветствия подписывались Молотовым как главой правительства и Сталиным как генеральным секретарём партии. Теперь же пирамида диктатуры обрела завершённость: Сталин открыто взял на себя всю полноту ответственности. Что же за чрезвычайная ситуация заставила его выйти из тени партийных кабинетов в открытое пространство правительственного зала? Среди дипломатов преобладало мнение, что это был не «кабинет войны» (cabinet de guerre), а «кабинет пакта четырёх» – имея в виду соглашение с Германией, Италией и Японией.
Отношение самих русских к советско-германскому кризису ярко отражала популярная в то время байка о диалоге между Сталиным и Гитлером. Сталин: «Что делает ваша армия на советской границе?»-Гитлер: «Они здесь на отдыхе. А что делает здесь ваша армия?» – Сталин: «Она здесь для того, чтобы ваш отдых продолжался».
Этот анекдот, возможно, был не так уж далёк от истины. 13 июня ТАСС, официальное советское агентство новостей, опубликовало коммюнике, ставшее образцом наивности и почти дословным повторением той шутки. «Ещё до отъезда британского посла сэра Стаффорда Криппса за границу, – говорилось в нём, – в иностранной печати появились сообщения о германских политических и экономических требованиях к Советскому Союзу». Эти сообщения характеризовались как «злостные вымыслы», а упоминание имени сэра Стаффорда в первой фразе намекало, что после его отъезда подобные слухи участились. Это был прямой выпад в адрес человека, которому вскоре предстояло вернуться в Москву уже в качестве посла союзной державы.
ТАСС заявило, что передвижения советских и германских войск к общей границе не носят «враждебного характера». Красная армия, настаивало агентство, проводит лишь обычные летние манёвры. Сообщения о трениях между странами, утверждалось в коммюнике, «распространяются с целью спровоцировать советско-германский конфликт и расширить масштабы войны». Эта фраза отсылала к марту 1939 года, когда Сталин впервые провозгласил курс на дружбу с Германией, предупредив партию об «англо-французских поджигателях войны» и указал, что Россия не должна «таскать для них каштаны из огня» (перевод западной прессой Сталинской идиомы «загребать жар чужими руками», что породило термин «каштановая речь»-примечание переводчика).
В заключение ТАСС заявило: «Обе страны намерены соблюдать положения советско-германского пакта о дружбе» – эти слова звучали с ложно-авторитетной интонацией, будто агентство располагало достоверными сведениями о намерениях Германии.
Это коммюнике было настолько странным, что уже после войны Соломон Лозовский, заместитель наркома иностранных дел, отчасти попытался его объяснить на своей первой пресс-конференции в качестве заместителя руководителя и официального представителя Советского информационного бюро.
По его словам, это была всего лишь уловка, чтобы прощупать немцев: если они опубликуют коммюнике в подконтрольной прессе своей страны и оккупированных государств, это будет означать их намерение соблюдать пакт о дружбе. Если не опубликуют – значит, собираются его нарушить. Они его не опубликовали, и таким образом советское правительство якобы убедилось, что Германия вот-вот станет врагом. Однако, судя по всем внешним признакам, советское правительство в тот момент не сделало таких выводов, и даже после войны это оправдание звучало крайне неубедительно. Единственной правдой в том коммюнике было то, что Германия действительно не выдвигала Советскому Союзу никаких политических и экономических требований. Более того, 21 июня немцы выполнили последнюю поставку в СССР согласно торговому договору. А советское руководство продолжало ждать ультиматума, который был объявлен лишь после начала войны.
Великобритания и США предупредили советское правительство о том, что располагают данными о подготовке Германии к нападению. Однако эта информация встретила лишь очередное подтверждение стремления СССР сохранить мир.
Британский посол Сэр Стаффорд Криппс запросил встречу со Сталиным, чтобы лично передать эти сведения. Ему отказали. Тогда он попытался встретиться с Молотовым – и снова получил отказ. В конце концов, ему удалось добиться аудиенции у Вышинского, однако содержание их беседы так и не было обнародовано. Сложилось впечатление, что Вышинский едва ли не счёл сэра Стаффорда «провокатором» за предположение, что Германия может предать своих советских друзей. Криппс покинул Москву в начале июня, по всей видимости, потерпев неудачу. Официально было объявлено, что он едет в Стокгольм "лечить зубы". На самом же деле он отправился в Лондон по делам и не планировал возвращаться в СССР. Лишь сами немцы смогли в итоге сделать его миссию в России успешной, превратив Великобританию и Советский Союз в союзников.
Последний официальный приём в Москве перед войной, на котором я побывал, был устроен немецким посольством в здании старого австрийского представительства, находящегося по соседству с гостевой резиденцией Наркоминдела и, одновременно, совсем недалеко от моего офиса в переулке Островского. Буквально на расстоянии нескольких домов. Мероприятие включало показ фильма, демонстрирующего ужасы блицкрига на Балканах – излюбленный немецкий приём устрашения. Но присутствующих здесь сотрудников отдела по связям с иностранными армиями РККА, казалось, это зрелище не впечатляло. Американское посольство отклонило приглашение для дипломатического персонала, однако представители военного атташата пришли. Был там и я. В мои профессиональные обязанности входило узнавать и писать о том, что у немцев на уме. На следующий день я уезжал в отпуск. "Ты правда уезжаешь сейчас?" – спросил меня Дмитрий Попеску, секретарь румынской миссии. В его голосе звучала лёгкая нотка удивления. Максимум, что он мог себе позволить, это намекнуть мне. Но я этого не уловил. "Да", – ответил я и уехал.
Глава 2. Россия накануне
Русская деревня в канун войны представляла собой завораживающее зрелище – панораму безмятежного, почти наивного спокойствия, царившего тогда во всех европейских странах, претендовавших на нейтралитет, пока Германия покоряла их соседей, чтобы вскоре обрушиться и на них.
Впрочем, назвать жизнь в России безмятежной было бы преувеличением. Первое, что замечал любой иностранец, гуляя по московским улицам, – люди здесь почти не улыбались. Но в те дни жить им стало определённо лучше. Урожай выдался хорошим, и еды хватало. Прибалтийские республики, всего год назад присоединённые к Советскому Союзу, начали поставлять потребительские товары. И на фоне бессмысленного разрушения, принесённого «империалистической войной», Россия казалась островом мирного созидания. Такими я увидел русских в самый счастливый период советского режима. Но я также увидел их настоящими.
Я всегда считал их примитивными людьми – страстными в своих жестокостях и покорными в подчинении, но я не понимал этого по-настоящему, пока не столкнулся с ними и с их самолётами.
Это произошло, когда я летел из Москвы в Сочи, на черноморское побережье Кавказа.
"Интурист" велел быть в московском аэропорту к 8:30 14 июня, чтобы успеть на рейс в 9:10. Мой шофёр Павел Иванович доставил меня вовремя, и тут началась борьба. У меня было три места багажа – чемодан, дорожная сумка и пишущая машинка. В зале ожидания этого ультрасовременного аэропорта множество людей набросилось на мой багаж, споря, протестуя и размахивая руками. В итоге решили, что я могу взять сумку и машинку, но для чемодана места не было. Его обещали отправить завтра. А «завтра» по-русски было как «маньяна» по-испански: когда-нибудь.
Я согласился, но спросил, можно ли переложить несколько нужных мне вещей из чемодана в сумку. Это тоже разрешили, и толпа тут же взялась помогать. В результате молния на сумке оказалась вырвана с корнем, и у меня в руках осталась рваная сумка, кое-как стянутая ремнем Павла.
К тому времени уже пора было идти. Ровно в 9:10 динамики что-то объявили, и я направился ко входу. Но я ошибся: это был рейс в Одессу в 9:20. Через несколько минут объявили самолет на Сухум и Сочи (рейс 9:10), и я вышел на взлетное поле.
Я понял, что самолёта бояться не стоит – это был двухмоторный двадцатиместный "Дуглас". Хорошая машина, такая же, как та, что год назад доставила меня из Берлина, и в отличном состоянии. Экипаж тоже внушал доверие: здоровый, крепкий пилот и второй пилот, деловитый механик и бойкая стюардесса. Она особенно выделялась. Молодая, полненькая брюнетка с открытыми голубыми глазами и курносым носом, она лишилась верхних зубов слева, но даже так смотрелась довольно миловидно и гордилась своей синей полувоенной формой. Работала она дружелюбно и умело. Беспокойство у меня вызывали только пассажиры.
Едва колеса аккуратно оторвались от взлетной полосы, как начался настоящий ад. Мое место № 10 располагалось в центре среднего ряда. Впереди меня сидела молодая быковатая пара. Девушка тут же помахала стюардессе, схватила бумажный пакет и начала извергать невероятные объемы. Мужчина последовал ее примеру. Затем они откинули спинки кресел прямо на мои колени и заснули. Слева от меня темнокожий крючконосый юноша с кудрявой шевелюрой начал нести околесицу. На лбу у него выступил пот. Глаза становились все шире и шире. Это был его первый полет. Где-то сзади другой пассажир начал давиться. Впереди остальные перекликались через проход, болтая без умолку.
Самолёт набрал всего полторы тысячи футов и взял курс строго на юг. На такой низкой высоте было неспокойно, и машину сильно бросало. Мой левый сосед не сводил глаз с альтиметра, пока стрелка не стабилизировалась, затем уставился на парочку впереди, пока те не угомонились. Убедившись наконец, что выше мы не поднимемся и что его не стошнит, он обрёл уверенность и присоединился к всеобщей болтовне. Потом запел во весь голос. В завершение начал декламировать на предельной громкости. Никто не обращал на него внимания. Всё это было совершенно нормально.
Стюардесса, обходившая пассажиров по очереди, подошла ко мне и громогласно объявила на весь салон, что я – особая персона, направленная "Интуристом". Все сразу уставились на меня. Она достала красный кожаный ежедневник – рекламный продукт одной берлинской оптической фирмы – и спросила, есть ли у меня такой же."Нет," – ответил я, – "я не немец, я американец." "Да, знаю," – сказала она, – "мне сказали." Оказалось, этот ежедневник ей подарили десять немецких инженеров на предыдущем рейсе из Ростова в Москву. Их эвакуировали буквально перед началом войны!
Пассажиры тут же начали забрасывать меня вопросами. Я объяснил, что я американский корреспондент, летящий в Сочи на отдых. "Из какой газеты?" – поинтересовались они. Я нашел в "Правде" несколько зарубежных репортажей с пометкой "Ассошиэйтед Пресс" и сказал, что это мое агентство. "А это ваши репортажи?" – спросили они. "Нет, – пояснил я, – я московский корреспондент". Посыпались обычные вопросы: как долго я в России и где бывал до этого.
Тем временем самолёт, преодолевая встречный ветер над Воронежем, взял курс на Ростов-на-Дону. Это был родной город моего соседа, и по мере того, как мы пролетали над Доном и мутным Азовским морем, он пел всё громче и громче, прерываясь лишь для того, чтобы восхвалять красоты Ростова. После пяти часов полёта из Москвы самолёт совершил посадку.
Стюардесса проводила меня мимо трёх самолётов, все «Дугласы», к тому, который продолжал рейс до Сухума. В этом большом двадцатиместном самолёте было всего четыре пассажира.
В двухчасовом перелёте через Кавказские горы мы поднялись на десять тысяч футов. На этой высоте было спокойно, а облака под нами напоминали сказочную страну: хлопковые поля и замки из взбитых сливок, населённые причудливыми снежными человечками и пушистыми зверьками. Один из пассажиров, молодой человек, багаж которого состоял лишь из теннисной ракетки, сел рядом со мной, что-то пробормотал по-русски, заикаясь, а затем сказал на ломаном английском: «Фантастические формы». Другой окликнул меня: «Товарищ!» – и показал на очередное облачное образование. Новая стюардесса, смуглая худенькая девушка, вспотевшая, в белом платье, сновала между пассажирами, указывая на достопримечательности за окном.
Вдруг пассажир, окликнувший меня «Товарищ!», воскликнул по-русски: «Море, море!» Все бросились к его борту, где в просветах между облаками сверкало Чёрное море.
Самолёт сделал разворот, огибая заснеженные горные вершины, и взял курс вдоль побережья к Сухуму. Посадка произошла на ровном поле, где девушка с красно-белыми флажками чёткими движениями направляла машину к терминалу – небольшому современному белому зданию аэропорта. На аэродроме два истребителя отрабатывали взлёт, стоял ещё один «Дуглас» и коллекция маленьких ящиков у края поля.
Я решил остаться в Сухуме, чтобы дождаться чемодана и отправиться в Сочи лишь на следующий день, но в аэропорт уже пришла телеграмма: срочно выслать меня далее, а багаж – за мной. Вежливый паренёк в синей форме проводил меня в здание, продал мне билет до Сочи и снова вывел на лётное поле.
Я не разглядел самолёт, на котором мне предстояло лететь, пока не оказался рядом с ним. Это был древний серый биплан с трещащим мотором, торчащим впереди, велосипедными колёсами вместо шасси и распорками, торчащими во все стороны, как нервы – мои собственные нервы в тот момент.
Ко мне подошла девушка с аптечкой, дала мне вату для ушей и натянула на голову шлем с очками. Они скомкали мою единственную фетровую шляпу и засунули её в замасленный угол. Две мои сумки засунули между панелями приборов. Это был открытый трёхместник.
Пилот сидел в передней кабине. Другой пассажир расположился позади меня. Самолёт затрещал, затрясся, запрыгал по полю и взмыл в воздух.
До Сочи час полёта, сказали мне перед вылетом. Час – это больше, чем я могу выдержать, подумал я. Я вцепился руками в деревянные опоры сиденья пилота, словно от этого зависела жизнь. Но когда я свыкся с мыслью, что между мной и землёй лишь слой фанеры и тысяча футов пустоты, стало не так грустно. Мы вернулись назад вдоль берега, покачались над Сочи и мягко приземлились.
Меня ждал старинный Паккард купе, который торжественно доставил меня в отель «Ривьера». Я прошёл по подъездной аллее, отдыхающие отвлеклись от домино и шашек, с любопытством разглядывая меня, – и направился в свой номер.
Это был роскошный просторный номер с двумя спальнями, с высокими окнами, выходящими на широкую веранду, с плетёными креслами и диваном. А дальше, за пальмами и кипарисами, Чёрное море накатывало волнами на каменистый берег.
Я принял ванну и после заката поужинал на террасе телячьей отбивной, салатом, пивом и кофе. За окном репродуктор хрипло передавал ту же государственную радиопрограмму, что так часто звучала в Москве. Но здесь она не казалась такой уж назойливой.
Некоторое время я читал «Мужчины без женщин» Эрнеста Хемингуэя, а затем заснул.
При всём богатстве Кавказа, на следующий день мне пришлось изрядно потрудиться в попытках поесть. Дело было не в том, что есть было нечего, а в том, что я никак не мог поесть, когда хотел.
Я предупредил, что хочу позавтракать в номере в девять утра: фрукты, хлеб, кофе и ничего больше. Накануне ко мне по очереди зашли директор, портье, повар, носильщик и горничная. Все спрашивали, что я желаю на завтрак. Каждому я повторял одно и то же. Все выглядели удивлёнными, хотя, казалось бы, чего проще?
Итак, когда я проснулся в 9 утра, я выкатился из кровати, умылся, оделся, думая, что завтрак вот-вот появится. К 9:30 я уже проголодался, а завтрака всё не было. К счастью, я захватил с собой пару яблок. Я съел их, выкурил сигарету, посидел на веранде и подождал. В 10:30 пришла горничная с огромным подносом, поставила его на столе веранды и начала раскладывать. Там было блюдо с икрой и луком – нарезанным и порубленным, тарелка жареных грибов с картошкой, салат из огурцов и редиса, сыр, масло, пирожное и бутылка белого вина «Абрау Рислинг» – советского аналога рейнского вина.
– «Это обед!» – протестовал я.
– «Это завтрак», – ответила горничная.
– «Но я заказывал фрукты, хлеб и кофе», – возразил я.
– «Это будет следующее», – сказала горничная и удалилась.
Через несколько минут она вернулась с подносом, на котором были ржаной хлеб, кувшин кофе, горшок густых сливок и миска с персиками и вишнями.
Как бы аппетитно это ни выглядело, я не смог ничего съесть. Я выпил чашку кофе, отодвинул еду вглубь стола, подальше от солнца, и отправился на прогулку.
Снаружи репродуктор уже кудахтал государственной трансляцией, попеременно звучали голоса дикторов-мужчин и женщин, песни и речи. Я пошёл обратно от берега через густой парк, чтобы убежать от радио и увидеть Кавказские горы. Горы были на месте, вдали сверкали заснеженные вершины, но также и радио неотступно преследовало меня. Я спустился в сторону города, мимо очередей на автобус или за молоком, в спортивный парк, а затем вернулся. Искать дорогу не пришлось: я просто шел на звук радио.
Когда я вернулся, директор, администратор, повар, носильщик и горничная – все ждали меня. Они хотели узнать, когда я буду есть снова.
«В два часа, – сказал я как можно тверже, – просто уберите горячее блюдо, а остальное оставьте здесь. Это мой обед. Просто разогрейте грибы с картошкой и принесите обратно».
Они выглядели озадаченными, но в целом удовлетворёнными и разошлись по одному.
Я сидел на веранде и вынужденно слушал это радио, заглушавшее шум прибоя, и наблюдал, как садящееся солнце плавило еду. Когда наступило два часа дня, а горячее блюдо так и не принесли, я поискал звонок, чтобы вызвать горничную. Его не было. В половине третьего я сдался и принялся есть икру, превратившуюся в желе, и сыр, уже расплавленный, запивая всё горячим вином.
Я уже приступил к фруктам, когда строевым шагом вошла горничная, неся ещё одно огромное блюдо с двумя стейками, жареной картошкой, морковью и огурцами.
«Уже поздно, и это слишком много», – попытался возразить я.
"Это не я, это шеф-повар", – отрезала она. – "Ешьте",и удалилась, её чёрная юбка и белая сорочка развевались в движении.
Я поклевал мясо с овощами и отставил их. Радио, к счастью, умолкло, я принял солнечную ванну на веранде, и когда стало совсем жарко, ушёл в комнату и вздремнул. В пять вечера громкоговоритель снова взорвался, я сполз с кровати, немного почитал, и тут пришла горничная для последней в этот день битвы за еду. "Когда и где вы будете ужинать?" – спросила она.
"В ресторане."– ответил я- "В 7 вечера."
"Здесь нет ресторана. Tолько санаторий", – "Хорошо, – сказал я, – в санатории или где угодно, но только там, где остальным удаётся съесть то, что они хотят".
Каким-то чудом мой чемодан прибыл в семь вечера, торжественно доставленный носильщиком. Он выглядел куда лучше, чем я после этого путешествия. На нём красовалась большая синяя багажная бирка – в тон с самолётом, на котором началось моё путешествие, – с надписью "Аэрофлот СССР" с одной стороны и "Kaccugu" (моя фамилия по-русски),
"Москва – Сухум" с другой. А рядом – скромная белая бирка, маленькая, точно такая же как самолёт, на котором я завершил путь, с надписью: "Kaccugu. Ribera Hotel Sochi". (Кассиди копирует свою фамилию и название отеля Riviera – Ribera(Ривьера) на бирке в латинице похожей на кириллицу (примечание переводчика).
Затем пришла горничная и провела меня через сад в соседний санаторий. Там была просторная столовая с высокими окнами, распахнутыми на три стороны к морю. Столы ломились от цветов и яств. Смуглые мужчины, похожие на гангстеров в отпуске, и их пышные дамы рассаживались по местам. Горничная провела меня по лестнице в маленькую отдельную комнату, нависавшую над рестораном, словно театральная ложа. Она принесла тарелку куриного супа, и перспективы с ужином стали выглядеть куда более обнадёживающе. Затем раздался подозрительный хлопок, и горничная появилась с бутылкой, завёрнутой в полотенце.
"Что это?" – спросил я."Шампанское", – ответила она.
За все четыре года во Франции я так и не полюбил шампанское. Даже если бы оно мне нравилось там, русское шампанское мне бы всё равно не понравилось.
"Я не хочу шампанского", – сказал я. "Советское шампанское", – подчеркнула горничная. "Я не хочу советского шампанского", – повторил я. – "Вино или пиво."
Она оставила бутылку шампанского передо мной и вышла. Через мгновение вернулась с другой бутылкой – липкой красной крымской мадерой. Она мне тоже не понравилась.
"Хорошо", – покорно сказал я.
Еда была хороша: суп, стейк, зелёный салат, торт и кофе. Но те две бутылки стояли передо мной как немые обвинители. Я поспешно закончил ужин и оставил их нетронутыми.
Во дворе люди расставляли скамейки по кругу. Парень в рубашке с короткими рукавами вынес аккордеон, и несколько пар танцевали. Правда, у женщин возникали трудности с туфлями на высоких каблуках на грубом бетоне. Затем за дело взялся конферансье, и началась географическая игра: он называл страну, а толпа должна была крикнуть в ответ название города. Веселье, похоже, заключалось в том, чтобы указать Владивосток в Чили, а Ригу в Австралии, дабы конферансье мог отпускать остроты. Потом они снова пытались танцевать.
Я заметил в саду павильон, где, судя по всему, продавали напитки. Подойдя ближе, я увидел штабеля льда и коричневые бутылки.
– Пиво есть? – полный надежд, спросил я.
– Закончилось, – ответила девушка, не отрываясь от подметания пола.
Я вернулся в номер, выпил стакан тёплой воды из неизменного графина на столе и лёг спать.
Я беспокоился о маленькой дырке от моли в стратегически важном месте моих плавок, но, как оказалось, зря. Потому что на Русской Ривьере, как в старой песенке про хула-хула – «don't wear trunks when they go to take their dunks»– «не носят трусов когда идут нырять».
Позже я вспомнил, что читал и слышал рассказы о нудистских купаниях в России, но это было давно. Даже если бы я и вспомнил о них раньше, то предположил бы, что теперь всё изменилось. Страна, начавшая с коммунистических идеалов, а теперь проповедующая патриотизм и святость семьи, уж наверняка обязана была одеть своих купальщиков.
Итак, когда я собрался впервые искупаться в Чёрном море, я завернул плавки в полотенце, спустился к стойке администратора и попросил указать путь к пляжу. Ресепшн клерк провела меня по садовым ступеням к берегу, а затем вдоль бетонной дорожки к зелёному деревянному забору пляжа.
«Идите туда», – сказала она.
За забором сидела молодая девушка, закутанная в белый халат, с полотенцем на голове. Позади нее простирался пляж длиной в сотню ярдов, усыпанный галькой и полностью огороженный. На плоских скамейках, выставленных на солнце, расположилась компания обнажённых мужчин. В глубине пляжа стояла ещё одна коллекция скамеек с вешалками для одежды и навесом, создающим тень.
Я устроился на скамейке в середине заднего ряда и стал наблюдать, чтобы понять процесс. Вскоре появился новый купальщик: занял место, спокойно снял всю свою одежду и направился к воде.
Большинство мужчин были голыми, но некоторые носили плавки. Я быстро разделся, натянул свои плавки и ринулся в море.
Пока я плыл, я разглядел, что дальше вдоль берега есть женский сектор – он отделялся от мужского забором на суше, но в воде границы не было. В тот момент купались всего несколько женщин и все были в купальниках. Но вскоре молодая девушка в пляжном халате подошла к воде, сбросила его и голой нырнула в море. На пляже несколько женщин загорали на скамейках совсем без одежды.
Вода была тёплой, почти без волн, и вскоре мне наскучило. Я вернулся на берег, взобрался на скамейку и размышлял о том, как русские могут быть простыми и по-детски непосредственными в одних вещах, и при этом столь сложными и зрелыми – в других.
В их наготе не было и тени смущения или непристойности. Мужчины – в плавках или без – плавали вместе или, играя, подбрасывали гальку под ноги тем, кто задерживался у кромки воды. Некоторые сначала были в плавках, но потом сняли их – просто им так было удобнее плавать. Женщины же, похоже, предпочитали купальники.
Блондинка, сидевшая у входа внутри ограды, слегка смущала меня, но она не обращала на мужчин больше внимания, чем, если бы это были животные.
Один раз она в ленивой задумчивости прошлась по пляжу, остановившись поболтать с парой мужчин, лежавших на скамейках лицом вверх, подняла брошенную на берегу бумажку и так же неспешно вернулась на своё место за столиком.