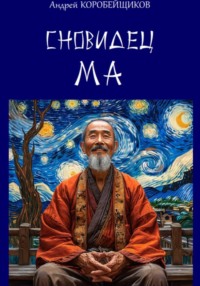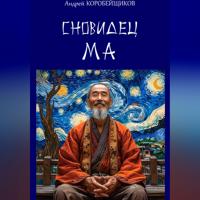Полная версия
Светление
– Не знаю. А какая разница? Мы же вместе!
Где-то вдалеке гулко прогремел гром. Я нахмурился и посмотрел вдаль, на линию горизонта, куда уходил своим изумрудным ковром бесконечный луг под ногами.
– Мне надо идти!
Мальчик хмурится.
– Куда?
Я пожимаю плечами.
– Не знаю. Назад. Меня там ждут.
Сынишка прижимается ко мне своей светловолосой головой и обнимает руками.
– Не уходи! Прошу тебя! Все уже закончилось. Останься.
Я тоже прижимаю его к себе и тут же отстраняюсь.
– Не прижимайся ко мне – одежда газом пропахла. Опасно.
Мальчуган качает головой.
– Здесь эти штуки не действуют. Отец, не уходи! Мне страшно! Я так тебя люблю!
Я пристально смотрю ему в глаза и понимаю, что больше всего на свете мне опять хочется остаться здесь, в этих лугах, со своим сыном, воспитать которого мне не позволила эта проклятая война.
– Сынок, давай договоримся! Я сейчас уйду и снова вернусь к тебе! Обещаю! Мне только надо опять туда! Понимаешь? Надо!
Мальчик кивает.
– Понимаю.
– Я тоже тебя люблю…
Его лицо тает, как тает и горизонт, и ромашковое поле с его чистым воздухом.
Я прихожу в себя. После ощущения легкости, возвращаться в отравленное тело было невыносимо. Вся гимнастерка была залита рвотными массами, тряпка на лице была в крови, в глаза словно насыпали горящих углей. Я застонал и медленно повернул голову в сторону. Рядом со мной лежал Рогов. Он был мертв. Я сделал усилие и медленно поднялся на колени. По сути, я тоже был уже мертв. Но внутри меня опять кипела та странная ярость, которая не позволяла мне окончательно уйти из этого мира. Ведь где-то там, в родном краю было зеленое поле, там ждал меня мой сын, который не должен был увидеть тех, кто убил его отца. Это было выше моего страха, выше моей боли, выше моей смерти. Это было вообще за гранью жизни и смерти. Я улыбнулся, разомкнув слипшиеся сухие губы под повязкой. Опять возникло отчетливое ощущение присутствия невидимого Хранителя где-то рядом. И прилив сил вместе со спокойной уверенностью. Как там, ночью в казарме, когда Хранитель прошел мимо, сообщив мне о моей грядущей смерти и погладив своей невидимой рукой. Я застонал и встал, опираясь о винтовку. Гул канонады закончился. И я понял почему. Понял и опять улыбнулся. Я не умру задыхаясь. Я погибну, как и хотел – в бою. Ведь если обстрел закончился, значит, противник готовится пойти в атаку. Трусливому немцу нечего бояться: чего не смогли сделать пушки и пулеметы, доделает удушающий газ. Они уверены, что крепость мертва. Они думают, что те, кто не умер от газа, не может сопротивляться. И поэтому они идут не в атаку, они идут на зачистку. Добивать полуживых трупов. Я докажу им, что это не так. Я заберу с собой хотя бы одного, чтобы они поняли, чтобы они знали, что русские не сдаются! Что у нас есть нечто большее, чем страх, нечто большее, чем боль, нечто большее, чем жизнь. У нас есть Долг перед Родными и Любовь, которую невозможно задушить хлором. И хорошо даже, что мы уходим так… Если бы мы просто победили, то ничего бы такого не было. Я бы не понял этих глубоких истин, не научился бы видеть ангелов, не осознал, как сильно люблю тех, кто остался позади, надеясь на меня, на всех нас, солдат, вставших на пути врага. Я передернул затвор, посылая патрон в ствол, и, шатаясь, вышел на улицу, разворочанную свежими воронками. Это было невероятно, но почти одновременно со мной из полуразрушенной крепости, залитой волнами зеленого дыма, вышли еще солдаты. Несколько десятков человек. Залитые кровью глаза. Окровавленные повязки на лицах. Это было ужасающее зрелище. Это были восставшие мертвецы, такие же, как я. Поднятые из небытия невидимой рукой Хранителя, незримо идущего впереди этого жуткого отряда, подобно полководцу, ведущего свою армию в последний бой.
Мы выстроились в ряд и, выставив перед собой штыки, нетвердой поступью шагнули вперед, следуя за тем, кого не было видно, но чье присутствие вселяло в нас непоколебимую уверенность в нашей победе. Ведь мы все равно победили. Даже если противник думает, что проиграли. Победили, потому что, презрев боль, шагнули за грань смерти, как и подобает Защитникам своего Рода, защищая самое ценное, что у нас есть – нашу Любовь.
Немцы шли по направлению к непокорной крепости несколькими длинными шеренгами в несколько рядов. Сотни, тысячи пехотинцев ландвера, облаченных в противогазы. Они двигались медленно, опасаясь то ли газа, то ли тех, кто лежал, умирая, в этом газовом облаке. Этому отчаянному сопротивлению русских был положен конец! То, что не сделали десятки мощных пушек, сделал хлор. Он душил сейчас тех, кто почти полгода держал в страхе огромный, хорошо вооруженный немецкий гарнизон. Это была цена упорства, цена глупости, которую пришлось заплатить этому непокорному народу, которого все равно удалось поставить на колени, пусть не страхом, не силой, а ядом, но удалось! И теперь солдаты шли посмотреть на этих загадочных русских, которые сами выбрали для себя смерть.
Внезапно идущие впереди офицеры остановились как вкопанные. Вслед за ними замерли шеренги пехоты. Сквозь очки противогазов это было похоже на оптическую иллюзию, отсветы в клубах зеленого тумана. Но нет, в облаке газа отчетливо проявилось несколько человеческих силуэтов…
Кровь застыла у всех, кто это видел! Потому что этого просто не могло быть! Но это было. Из ядовитого облака медленно вышли те, кто давно должен был лежать в лужах собственных испражнений. Русские солдаты! Защитники непокорной крепости. Их было всего несколько десятков, но каким жутким было это зрелище! Отряд мертвецов шел вперед строем, выставив перед собой штыки. Смерть была не властна над ними. Они шли убивать, а их невозможно было убить! Ни пулями, ни снарядами, ни хлором. Они были БЕССМЕРТНЫМИ!
Этого не мог выдержать разум даже опытных солдат. Ландвер дрогнул. Винтовки опустились в ослабевших руках. Не было смысла стрелять в тех, кому не страшно было обычное оружие. Нужно было бежать, спасться, оказаться как можно дальше от этого проклятого места, защищаемого духами, мертвецами. Послышалось несколько гулких выстрелов – это заговорили пушки из крепости. Крепость была по-прежнему жива. Взрывы разметали передние шеренги наступления, и это было последней каплей, надорвавшей плотины благоразумия. Сотни, тысячи солдат бежали назад в панике, бросая оружие, давя друг друга, прыгая прямо сквозь обрывки колючей проволоки, болтающейся вокруг. Их гнал ужас. Они не видели ничего страшнее в своей жизни, чем появившиеся из облака ядовитого газа живые мертвецы, идущие в атаку, выплевывая обрывки своих легких, захлебываясь собственной кровью, падая, но вставая и снова двигаясь вперед, гоня назад своих трусливых убийц, хрипло смеясь им вслед, видя, как боятся до жути их те, кто еще несколько минут назад чувствовали себя победителями, кичась своим численным превосходством. Это была не их победа. Это было сокрушительное поражение, не знавшее аналогов в истории. Поражение животных инстинктов перед силой Духа. Поражение могущественной армии, которая потом сделает все, чтобы стереть этот день из памяти потомков. Поражение, вошедшее в историю как «Атака Мертвецов».
Зрение уже начало отказывать, черные сполохи заволакивали все вокруг. Но я шел и смеялся. Я был счастлив, потому что это была моя последняя битва. Я знал, что скоро умру. Но какое это было счастье умереть в бою, глядя, как враги в ужасе бегут от нас прочь.
Справа кто-то молился вслух. Слева был слышен натужный хрип и хриплый шепот сквозь него, похожий на призывный крик:
– За Веру… За Отечество…
Я повернул голову. Рядом, шатаясь, шел Рябина. В памяти сразу всплыли его слова:
«Больше всего на свете мечтаю я перед смертью добраться хотя бы до одного из них. Чтобы глаза его увидеть. Чтобы штык в грудь его вогнать. Чтобы уйти не одному, а прихватить с собой несколько этих трусливых псов».
Рябина тоже смеялся. Он был счастлив. Столько дней ждать своего врага, прячущегося за артиллерийскими и пулеметными ограждениями, и наконец дождаться. Рябина тряс винтовкой и все пытался ускорить шаг, но идти быстрее он не мог, поэтому периодически он пытался кричать:
– Стой! Сюда! Иди сюда!
Но крик превращался в шипение в обожженных легких, поэтому слышал его только я. Мои ноги вдруг подломились и я упал в траву. Винтовка была слишком тяжелой, чтобы нести ее. Я попробовал встать, но не смог и завалился на землю, глядя в небо над своей головой.
– Эй… подождите… я с вами… – прохрипел я и снова попытался встать. Получилось лишь со второй попытки.
– Меня зовут… Петр… Семенов. Я – рядовой тринадцатой стрелковой роты…
Я шел вперед, не чувствуя ног, что-то бормоча онемевшими губами. Я догонял своих. В атаку…
В какой-то момент я понял, что газа больше нет. Что идти стало гораздо легче. И трава вокруг больше не была такой угрожающе черной. Я шел вперед по изумрудному лугу, устланному ковром из ромашек, а навстречу мне бежал мой сын. Я развел в стороны руки и, схватив его, прижал к себе изо всех сил, как самое ценное, что было у меня в этом мире.
– Ну вот, сынок, я же обещал, что вернусь… Я всегда буду защищать тебя! Всегда…
И рассмеялся от переполняющего меня счастья. Но уже без боли, потому что боли больше не было. И слезы в глазах были уже не от газа. И не было тяжелой винтовки в руках. И можно было упасть в белое покрывало ромашек. И можно было вдыхать полной грудью, но уже не убийственный хлор, а свежий запах травы…
ВТОРАЯ МИРОВАЯ.

ЧАСТЬ 2. «ТЕНИ ЧУЖАКОВ».
РАЗЛУКА. 1942г. Село Боровое.
Там, где прежде
Любовь была
В мире снежном,
Не зная зла,
Верят солнцу
И ждут тепла
Дети лета.
«Моральный кодекс»
Меня зовут Егор, мне восемь лет. Я не могу говорить вслух, поэтому я лежу, накрывшись одеялом, и шепчу эти слова, будто разговариваю с кем-то невидимым. Если ты сейчас слышишь меня, значит, ты и есть тот человек, к которому я обращаюсь в темноте. Я не знаю, кто ты, потому что для меня ты – выдумка. Я придумал тебя, чтобы было не так страшно, чтобы можно было хоть с кем-то поделиться своими переживаниями. Даже если тебя не существует, это не важно. Я просто расскажу тебе о том, что со мной происходит. Потому что если держать это в себе, то можно просто сойти с ума.
Еще год назад все было по-другому. Иногда мне снились очень страшные сны. В них были какие-то злобные существа, внешне похожие на людей. Но я знал, что это были не люди. И тогда они подкрадывались ко мне, и я в ужасе просыпался, пытаясь унять дрожь в теле и восстановить учащенное дыхание. Сжав ладони в кулаки, чтобы было не так страшно, я пристально вглядывался в окружающую темноту, и мне казалось, что эти существа все еще здесь, что они никуда не исчезли вместе со сном, а преодолев его границы, оказались в моей комнате, прикидываясь тенями, скрываясь в темных углах, ожидая, когда я усну. И вот тогда я срывал с себя одеяло и что есть духу бежал в комнату родителей, забираясь под их теплое одеяло и прижимаясь к отцу. Тогда мне казалось, что существа замирали на пороге комнаты, не решаясь войти вовнутрь, злобно сверкая своими глазами из темноты коридора и опасливо поглядывая на моего папу. Тогда я специально прижимался к нему поближе, а он обнимал меня своей сильной рукой. Иногда я просто засыпал, а иногда рассказывал ему о своих страхах. В нашей семье так было принято – ничего не скрывать друг от друга. Да и проще было рассказать все, и тогда становилось легче, невидимые тревоги исчезали, тени растворялись по углам, становилось спокойно. Отец всегда вселял в меня уверенность и спокойствие одним лишь своим присутствием. Мне всегда казалось, что когда он рядом, ничего не может случиться плохого. Что он решит любую проблему, разберется с любой неприятностью. Оказалось, не с любой. Около года назад началась война. Сначала это было просто страшное слово, а потом она стала реальностью. Сначала забрали в армию отца. Вернее, он сам написал заявление в военкомат как бывший военный. И вместе с ним из нашей семьи окончательно ушли счастье, уверенность и спокойствие. Первые несколько ночей я плакал, забравшись, как сейчас, под одеяло. Но на этот раз нельзя было выбраться из-под него и, пробежав по холодному полу, юркнуть в теплую родительскую кровать. Вернее, забраться туда можно было и сейчас, но прижаться к отцу уже нет. Не с кем было пооткровенничать, иногда пожаловаться и услышать в ответ:
– Не бойся сынок, я рядом. Все хорошо. Спи спокойно.
Отца уже не было рядом, а значит, все было совсем не хорошо, и это пугало меня еще больше. С уходом отца сны стали повторяться все чаще и чаще, а ощущение чужого присутствия в темноте – все сильнее. А когда мама стала пропадать на работе по несколько дней, и мне приходилось ночевать дома одному, вот тут-то и начинался самый ужас! Тогда я научился придумывать себе собеседников. Накрывшись одеялом, я разговаривал с невидимыми друзьями, стараясь говорить погромче, чтобы те, кто ходил в темноте около кровати, слышали и думали, что я на самом деле не один. Заснуть я уже не мог и иногда лежал до утра, зажав одеяло со всех сторон, чтобы никто не смог просунуть руку под него, и говорил, говорил, говорил. И было тоскливо, страшно и одиноко, так, что хотелось кричать. Но я лишь плакал, сжав подушку зубами, чтобы те, в темноте, не подумали, что мне страшно. В те дни мне казалось, что мир рухнул, и что хуже уже ничего быть не может. Но оказалось, что может. В один из таких серых дней мама пришла с работы раньше обычного и первым делом прижала меня к себе. Сначала я подумал, что что-то случилось с папой, потому что мама тщетно пыталась сдержать слезы. У меня сжалось сердце и перехватило дыхание. Мама наклонилась и пристально посмотрела мне в глаза. Я приготовился услышать страшное, но услышал неожиданное:
– Ничего Егорушка, это ненадолго! На пару недель всего. А потом я к тебе приеду. Или тебя назад заберу. Ничего…
Мама бормотала еще что-то скороговоркой, а я уже понял, что происходит нечто действительно ужасное, конечно, не такое страшное, как смерть папы, но все равно что-то очень трагичное.
– Мам, что случилось? – протянул я дрожащим голосом.
– Ничего, ничего, все хорошо. Вам там будет очень хорошо…
– Где? Где – там? – пробормотал я, еле сдерживаясь, чтобы не заплакать. А мама лишь посмотрела мне в глаза и опять прижала меня к себе, крепко-крепко и сама затряслась в беззвучных рыданиях.
Машина приехала во двор рано утром. Мы вышли с мамой в подъезд, и она долго пыталась совладать трясущейся рукой со связкой ключей, запирая замки. Я отрешенно наблюдал за ней, просто не зная, что делать дальше. Весь вчерашний вечер, половину ночи и все утро я пытался уговорить ее не отправлять меня в зловещие «ДСП», куда «непременно нужно было уехать на время». Одна мысль, что вслед за отцом у меня отберут и маму, была для меня невыносима. За всю свою жизнь я ни разу не разлучался с родителями больше, чем на пару дней. Теперь война забирала у меня обоих. Мама сказала, что это необходимо для моей безопасности и ее спокойствия. Я пытался убедить ее, что со мной и здесь все будет хорошо, а ей я не доставлю никаких хлопот – если надо уходить хоть на три дня на работу, я буду тихонько сидеть дома. Но она была непреклонна. Первый раз я видел ее такой решительной. Теперь, без отца, она становилась совсем другой – собранной и сосредоточенной. Это уже позже я узнал, что почти сразу после того, как грузовики с детьми разного возраста – от грудных до уже взрослых типа меня – покинули город, он подвергся страшнейшим бомбардировкам и обстрелам из пушек. Половина домов была полностью разрушена, а спустя несколько недель, туда вошли немцы. Именно поэтому нас, «детский обоз», вывезли в спешном порядке в специальные Детские Сельские Поселения, находившиеся глубоко в тылу. Никогда не забуду этот день. Грузовики с серо-зелеными тентами заезжали во дворы, где их уже ждали сгрудившиеся в небольшие группы родители с детьми разного возраста. Отдавали даже совсем маленьких, еще грудных детей, замотанных в пеленки. Их бережно принимали сотрудницы и сотрудники специальной службы, что-то помечая в своих тетрадях. Около таких машин в каждом дворе раздавались одни и те же звуки – плач детей, сдержанные всхлипывания родителей, а потом, когда грузовики уже выезжали из двора, в голос ревели и сами родители, дождавшись пока их не будет видно из-за поворота. Так я оказался в ДСП «БОРОВОЕ». Так началась моя новая жизнь.
ДСП «БОРОВОЕ».
Детские сельские поселения на самом деле представляли собой обычные детские дома, которые располагались в крупных селах и деревнях. Если под них не могли отвести большие избы, то детей расселяли прямо в деревенских школах, установив в тесном зале несколько рядов металлических коек. Грудных детей раздавали по сельским семьям. Наше ДСП возглавлял директор-воспитатель – Алевтина Георгиевна. Раз в неделю в школу приходил на медосмотр местный врач. Повар в ДСП тоже был свой – инвалид по глухоте Федот Федотыч. Приготовление пищи он совмещал с хозяйственной деятельностью. Хотя и то и другое очень сильно зависело друг от друга – продуктов на детдом выделяли не много, и Фефе, как мы называли его за глаза, приходилось проявлять чудеса смекалки, чтобы накормить нашу разновозрастную команду. При ДСП была закреплена корова, над которой Фефе практический трясся, как пират над сундуком сокровищ. Хотя, честно говоря, она и была для нас сокровищем – благодаря Нюрке мы и жили, все тридцать семь человек. А благодаря Фефе обходились в отсутствии нормальной еды заготовками его собственного производства – летом наш завхоз проводил почти все свое время на огороде, за школой, и в лесу, где собирал различные травы, грибы и ягоды. Именно благодаря его навыкам мы иногда пили травяные сборы и морсы, ели папоротник и разные вкусности – типа варенья из тертых одуванчиков. Все это помогало нам выжить, потому что многие из нас были истощены и ослаблены. На это время Фефе превратился для нас в отца, а Алевтина Георгиевна в маму. Хотя… никто не мог заменить мне, да и всем остальным, наших потерянных родителей. Именно поэтому, когда наступал вечер, и мы укладывались спать, из-под многих одеял слышались приглушенные звуки рыданий – дети никак не могли понять, почему так случилось, что их лишили самого дорого в этой жизни. Для того чтобы хоть как-то скрасить это настроение, ситуацию обычно спасал самый старший среди нас, Костя Комов. Когда свет в зале гас, он первый подавал голос:
– Эй, мальки, ну хорош плакать. Что бы родители ваши о вас подумали, если бы услышали?
– Что мы по ним скучаем, – дрожащим голосом произнесла из темноты Лена Самойлова.
– Ну, понятно, скучаем. Только что толку от того, что мы слезы тут будем лить? Нам наоборот, держаться надо, родителей наших поддерживать.
– Это как это, поддерживать? – раздался чей-то голос из темноты.
– А так, – было слышно, как Комов откинул одеяло и сел на кровати, – думаете легко им там сейчас? Уверен, они тоже думают о нас, постоянно. И хотят, чтобы у нас все было хорошо. Может быть, они даже чувствуют, что с нами происходит. И если мы будем плакать, будем слабыми, они тоже будут слабеть. А им нужны силы, чтобы сражаться с фашистами. Поэтому нам надо держаться, нам нужно помогать им хотя бы так.
– Я бы хотел быть сейчас вместе с ними, чтобы тоже бить фашистов, – пробормотал из темноты Юра Вольнов. Все замолчали, и в этой тишине было слышно, как продолжает плакать маленький Савелий Зубов.
– Савик, перестань! – в голосе Комова не было раздражения, наоборот, в нем сквозили теплые нотки, – иди сюда, давай ко мне, под одеяло.
Послышалось шлепанье босых ног, и пятилетка Савелий забрался в кровать к Косте.
«Прямо как я к своему отцу» – подумал я, и на меня опять нахлынула волна удушающей грусти. Но плакать было нельзя. Я был здесь одним из старших. Поэтому я просто сжал зубы и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, загоняя слезы и тоску глубоко в себя.
– Придет и наше время, – прошептал Комов, – подрастем и будем фашистов давить!
– Ты думаешь, война будет так долго? – спросила Самойлова.
– Нет, конечно! – фыркнул Комов, – наша армия их раздолбает! Только я, когда вырасту, все равно буду с ними воевать! Во всем мире! Чтобы нигде больше не было вот так, как с нами.
– Это как это? Во всем мире? – осторожно задал вопрос Вольнов.
– А так. Буду искать их, где бы они ни прятались, и уничтожать! – Комов говорил с такой убежденностью, что все поняли – фашистам придется туго.
– А как вы думаете, фашисты, они вообще люди? – спросила Зина Колосова, старшая из девочек, – я вот часто думаю об этом. Что им от нас надо? Что им в своей Германии не живется? Зачем воевать? Зачем людей убивать? Ради чего?
– Нелюди они, – мрачно пробормотал Комов, – внешне как люди, а внутри – чудовища.
– А ты откуда знаешь? Ты живого фашиста видел?
– А мне не надо на них смотреть! Я на дела на их смотрю – на нас с вами вот. Почему-то наши отцы к ним с войной не пошли, это они на нас поперли.
– А мне страшно, – Самойлова вздохнула, – а вдруг они победят? Что тогда с нами будет? С нашей страной?
– Не победят! – с уверенностью отрезал Комов, – Нас никто никогда не победит! Мы им никогда не сдадимся! Никому! Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет! Правда, Савка?
Пятилетний Зубов промолчал, уткнувшись наголо стриженой головой в плечо старшему товарищу.
Четвертый день озноб, вызванный сильной температурой. Болею. Уже два дня лежу в кровати, закутанный в два одеяла. Почему-то все время хочется спать. Алевтина Георгиевна говорит, что это хорошо, что сон лечит. Опять проваливаюсь в зыбкую дрему. Перед глазами возникают и тают образы, похожие на сны. Но это не сны. Я знаю это, потому что не сплю. С одной стороны, я слышу все, что происходит в зале, с другой – вижу перед собой яркие картинки. Вот все вокруг заволокло туманом. Он стоит передо мной сплошной стеной. Но мне не страшно. Я знаю, что за этой стеной что-то очень хорошее и совсем не страшное. Там кто-то был, за пеленой тумана. Я чувствовал там чье-то присутствие. Но это были не тени, пугающие меня по ночам. Это был кто-то из своих. Я даже подумал, что это отец там, в клубах тумана, стоит и ждет, пока я сделаю шаг вперед, пройду сквозь дымчатую стену.
– Папа, я иду!
Я шагаю вперед, и туман окутывает меня с головой. Я чувствую, что зал с кроватями и мокрыми от пота одеялами остался где-то позади. Я проваливаюсь в сон, в котором отец. Он где-то здесь. Его нужно просто найти. Я иду вперед, выставив перед собой растопыренную ладонь.
– Папа! Папочка, ты где?
Я кричу, и туман расступается от звука моего голоса, опадает у моих ног невесомыми клочками. Прямо передо мной стоит человек. Солдат. Он одет в старую гимнастерку, на его голове фуражка, через плечо перекинута свернутая в скатку шинель. За другим плечом висит винтовка. Папка? Я пристально всматриваюсь, но не могу разглядеть его лицо. Солдат тоже стоит в клубах тумана, витающих вокруг него словно сонм драконов, окутывающих незнакомца дымчатыми крыльями. Я понимаю, что не могу разглядеть лицо солдата, потому что оно скрыто за повязкой. На ней кровь. Он ранен? Солдат делает шаг вперед. Я испуганно отступаю. Эта фигура пугает меня. А он протягивает ко мне руки, словно приглашает подойти и обнять его. Кто это? Папа, это ты? Нет, этот солдат выше моего отца. Что делает этот страшный человек в моем сне? Я боюсь и одновременно… не боюсь. Странное чувство. Я понимаю, что этот солдат не фашист. Несмотря на свое странное обмундирование, этот воин явно был нашим.
– Кто ты? – пытаюсь спросить я его, но не могу произнести ни слова. Горло будто перевязали крепким ремнем. Тогда я делаю шаг назад и снова оказываюсь в плену тумана.
– Его-о-р… – тихий шепот издалека. Голос знакомый, хотя я ни разу не слышал его. Может, это все-таки отец? Я делаю усилие и… просыпаюсь. Унылые стены, сверху побеленные известкой, снизу выкрашенные ядовито-синей краской. Серый потолок. Я натягиваю на лицо едко пахнувшее одеяло и опять закрываю глаза. Странный сон. Перед внутренним взором лицо незнакомца, закутанное окровавленной повязкой. Что поразило меня в нем? И тут я вспоминаю. Глаза. У солдата были светлые и очень добрые глаза, смотревшие на меня с грустью.
К вечеру температура усилилась. Врач сказала Алевтине Георгиевне, что нужно ставить антибиотики, иначе я долго не протяну. Я слышал, как они шептались, выходя из зала, а меня опять накрыла волна горячей дремы, словно растапливая мое тело и унося меня в яркие видения, в которых не было войны и не было этого унылого помещения, изрядно надоевшего мне за время болезни.
Сон, в котором я оказался, был просто чудесным. Безграничное зеленое поле, заросшее травой и разнообразными цветами, среди которых было особенно много ромашек, раскинулось у моих ног подобно разноцветному ковру. Над головой раскинулось лазурное небо с пушистыми облаками. Светило яркое солнце. Было радостно и спокойно. Впервые за последний год появилось ощущение, что я дома. А может быть, я уже умер?