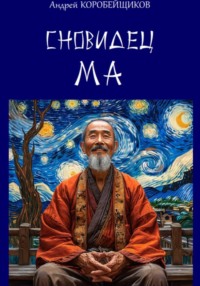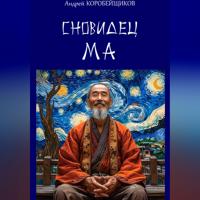Полная версия
Светление
За окнами подвала слышится заунывный свист, и земля поднимается и опадает, издавая страшный гул. Все, на смену «серому» времени приходит «черное». Время артиллерийского обстрела и бомбардировок с аэропланов. Мой сосед справа даже не просыпается. Все так измотаны этой войной и уже привыкли к взрывам бомб, что тело и мозг уже не реагируют на очередную атаку. Как это чудесно – провалиться в сон, хотя бы на какое-то время выпасть из жуткой реальности. Во сне, если повезет, нет войны, там дом, родные и близкие. Только мысли о них спасают нас, заставляют жить и сопротивляться. Только мысли о них…
Насколько я знаю, немцы впервые атаковали эту крепость в сентябре 1914-го. Из Кенигсберга были переведены орудия большого калибра, которые обстреливали крепость в течение шести дней. Но охранный гарнизон был усилен – крепость имела важное стратегическое значение. Она прикрывала дорогу на Белосток, откуда открывались Гродно, Вильно, Минск и Брест, являясь, по сути, единственной преградой на дороге немецких войск, планировавших сразу глубоко войти на территорию России. Но немцы не учли сразу несколько обстоятельств: выгодное расположение крепости – она стоит на высоком берегу реки Бобер, а все остальное пространство представляет из себя заболоченную местность, миновать которую войсковому объединению практически невозможно, и дух ее защитников – у ворот Осовецкого бастиона войска Германской империи натолкнулись на ожесточенное сопротивление, невиданное ими за всю историю военной кампании. Так, в январе началась осада крепости. Ее сразу же накрыли плотным огнем артиллерии и непрекращающимися атаками аэропланов.
Когда я попал сюда, солдаты гарнизона тут же просветили меня относительно мощи нападающих: нас обстреливали сразу свыше пятидесяти мощных орудий и несколько «Больших Берт», ужасающих пушек, стреляющих снарядами весом около пятидесяти пудов и оставляющих воронки глубиной в два человеческих роста. Когда я испытал мощь такого снаряда, разворотившего бетонный свод западной казармы, я понял, что такое животный страх. Это когда что-то внутри тебя начинает жить другой жизнью и судорожно ищет выход подальше, прочь из этого места. Потом взрывы становятся частью повседневной жизни.
Насколько я знаю, командование поставило перед гарнизоном сложную задачу – продержаться в этом аду хотя бы несколько дней. Крепость держится уже полгода. Она почти разрушена, но дух ее защитников до сих пор не сломлен. И теперь я знаю, что придает силы человеку в этом мире – осознание ответственности за своих Родных, за свое Отечество, за свою Веру. И когда тебе уже так страшно, что ты почти еле дышишь, когда ты изможден голодом, обстрелами, ранами, и умереть становится проще, чем выжить, ты думаешь о них, о тех, кто остался дома – и что-то внутри шепчет – не сейчас, ты должен жить! Пока живешь ты, живут они! И ты берешь винтовку и опять идешь к бойницам, туда, где смертью пропитан каждый дюйм земли под ногами. Я закрываю глаза, и перед внутренним взором встает город моего детства. Там солнечно и спокойно. Вот и я, лет десяти от роду, бегу по каменной улице в тенистый палисадник. А может, это не я, а мой сын? Ему сейчас как раз десять. Но почему он в моем теле? Мы оба, словно в одном мальчишеском теле, в городе моего детства, где нет войны. Война…
Моя голова качается из стороны в сторону, и не понятно, от очередного взрыва или от того, что меня трясет сосед по койке.
– Вставай, подъем!
Солнечный городок тает, и на смену ему приходит мрачная казарма и устойчивый запах пыли и грязной одежды.
Война… «Белое» время для меня закончилось, чтобы вернуть в крепость смертников в самый разгар времени «черного». Взрыв, еще взрыв. Я сажусь на койке и начинаю собираться на передовую. Каждый раз, когда я делаю это, я не знаю, вернусь я сюда или нет.
На выходе из казарменного блока мне попадается облезлый пес по кличке Пуля. Он слывет старожилом гарнизона и пользуется уважением всех обитателей крепости. Среди нас даже ходит байка про то, как этот пес несколько раз своим лаем предсказывал наступление немцев. Он почти всегда терся где-то в казармах, а на время «черных» обстрелов уходил в подвальные катакомбы. Погладить его перед выходом на первую линию крепостной стены считалось хорошим знаком. Я наклонился и потрепал Пулю по загривку. Пес поднял голову и посмотрел на меня глазами, в которых тоже читались усталость и обреченность.
– Ничего, Пуля, живы будем, не помрем, – бросил я ему и пошел на построение. Смена стрелкового отряда менялась строго строем, в моменты между основными бомбовыми ударами.
Когда бомбежка прекратилась, я вытащил «жут» и, продув через нос уши, повернулся к своему неизменному другу и соседу по стрелковому козырьку – Рогову Ивану. Рядом с ним у соседней бойницы лежал мой второй товарищ, по прозвищу Рябина. Они тоже «продувались», приходя в себя после грохота и пыли, облаком стоявшей над крепостью. После самой бомбежки можно было немного передохнуть. Враг не мог пойти в атаку на крепость, пока сам же ее бомбил, а после прекращения этой адской кухни ему все равно было необходимо время, чтобы подойти на передовые рубежи. Но подобные атаки были крайне редки здесь. Поначалу немцы бросали на форпост свою пехоту после каждого крупного обстрела, видимо ожидая, что защитники крепости либо погибли в море огня и металла, либо находятся в деморализованном состоянии. Выжить здесь и правда было сложно. Кирпичные здания были уже разрушены. Деревянные почти все сгорели. Стоять остались только бетонные конструкции, и то не все, а лишь дополнительно укрепленные. Вся земля перед бастионами и внутри крепостного двора была испещрена воронками. От легких блиндажей не осталось даже следа. Но при этом гарнизон жил! И более того, с появлением на расстоянии выстрела линий немецкой пехоты, из полузасыпанных землей бойниц начинали строчить пулеметы, выплевывали снаряды легкие пушки и гулко долбили винтовки. Спустя некоторое время, немцы просто перестали совершать такие вылазки, усилив обработку крепости гаубицами, тяжелыми орудиями и бомбовыми аэропланами.
Рябина хмыкнул и кивнул в сторону противника.
– Боятся нас…
Он погладил штык, пристегнутый к поясу, и мечтательно пробормотал:
– Больше всего на свете мечтаю я перед смертью добраться хотя бы до одного из них. Чтобы глаза его увидеть. Чтобы штык в грудь его вогнать. Чтобы уйти не одному, а прихватить с собой несколько этих трусливых псов.
Рогов тоже усмехнулся:
– Ага, сунутся они сюда. Жди! Им проще нас с землей сравнять, а уж потом под дробь барабанов торжественно по трупам нашим пройтись.
Я протер глаза и посмотрел в бойницу. Все поле перед проволокой, натянутой по периметру, заволокло дымом.
– Равняют они нас, равняют, а толку все нет.
– Да-а, Европа, мать их, – Рогов массировал вывихнутую ногу, – только на технику свою и рассчитывают. А душонки у них никудышные. Не умеет Европа воевать. Это вам не азиаты.
Рябина, запрокинув голову, посмотрел вверх, но сквозь черные дымные разводы неба было почти не видать.
– А что, Андреич, как думаешь, скока мы еще здесь продержимся?
Рогов неопределенно пожал плечами.
– Это только Господу нашему известно. Пока живы будем, так и будем держаться. Или пока начальство приказ не отдаст на отход. А оно не отдаст – слишком много за нашей спиной дорог для Кайзера открывается.
Рябина отстегнул от пояса флягу с водой и сделал пару небольших глотков.
– Это точно. Как подумаю, что немцы до деревни моей дойдут, кровь в венах холодеет. У меня там семья, трое ребятишек. У Петьки вон сын. Получается, что надо нам костьми здесь лечь, а заразу эту не пущать сквозь нас.
Рогов задумчиво прищурился.
– Вот я давно думаю – почему люди воюют? Чего им мирно не живется? У этой же немчуры тоже, поди, детишки дома остались. Что их сюда тянет и тянет, словно пчел на мед? И вот смотрю я на них, – пехотинец кивнул на бойницу, – и понимаю, они и правда, как будто больные. Болезнь у них в головах какая-то, разъедает их изнутри. Не похожи они на людей – как черти, прости Господи. Таких, конечно, сквозь нас никак пускать нельзя. Нечего им там у нас делать! Так вот думал я, что если вот, не дай Бог, захватят они нас, мужиков, то они в расход всех пустят, не станут рисковать, правильно ты, Рябина, сказал, боятся они нас! Понимают, что русского мужика не сломить им, в рабы не заделать. А вот баб и детишек ведь перепортят. Заразят этой болезнью своей. Они ведь, как чума, по миру распространиться хотят. И поэтому мы здесь под пулями и бомбами лежим в земле, кровью умываемся, потому что знаем, пропустим их и тогда все, хана!
Издалека послышался какой-то новый звук, и все солдаты почти одновременно повернулись к бойницам, отлаженным движением прильнув к прикладам винтовок. Звук раздавался из-за дымной стены, поэтому было сложно понять его источник. Оглушенные пехотинцы внимательно вслушивались в пространство.
– Так это эти, – подал голос кто-то из пулеметчиков, – парламентарии. Опять сдаваться будут агитировать. Ну и проверят заодно, как мы здесь, не кашляем, все ли живы, здоровы?
На стенах и бруствере послышался хриплый смех. Дико было, наверное, слышать его тем, кто приближался сейчас осторожно к нашим позициям под пронзительные звуки рожка, извещающего о приближении переговорной группы.
Я смотрел на удаляющихся переговорщиков с легкой улыбкой на губах. Они уходили поспешно, словно ждали подспудно выстрела в спину. Сгорбленные, растерянные, совсем не такие важные, какими были до озвучивания своего ультиматума, немцы несли в свой штаб две важные новости. Первая – все обстрелы последних нескольких дней не принесли желаемого результата – русский гарнизон боеспособен и морально собран. Вторая – в ответ на предложение сложить оружие взамен на гарантии жизни, был получен емкий и циничный ответ, исказивший лицо офицера-переговорщика страхом и изумлением. Его можно было понять. После выпущенных за неделю по крепости тяжелых снарядов, здесь вообще не должно было остаться признаков жизни! А жизнь здесь не просто осталась, она еще и смеялась прямо ему в лицо. Никто не просил пощады, никто не спрашивал о гарантиях! Русские были словно заколдованы в этих полуразрушенных стенах. Но офицер не сразу смог оценить ситуацию. Когда он вызвал коменданта крепости и стоял, слушая смех из-за потрескавшихся бетонных стен, он думал, что солдаты просто сошли с ума. Они выжили, что уже было невероятно, но для любого человеческого рассудка это было невыносимое испытание! И теперь они должны были безоговорочно принять все его требования. И какого было ему услышать довольно внятную отповедь русского офицера, который насмешливо смотрел ему прямо в глаза. И вот тут немец дрогнул. Он увидел в них не безумие, а обреченную готовность стоять до конца, не страх, а готовность умереть, но не сдаться. И когда в ответ на отчаянную фразу: «Не испытывайте судьбу! Вы храбрые солдаты! Вам не обязательно умирать! Подумайте о своих родных! Сдавайтесь!», он услышал хлесткое – «Русские не сдаются!», то отвел глаза. Смотреть в глаза живому мертвецу было невыносимо и просто страшно. Он торопливо шел назад, увязая в месиве грязи и обходя огромные воронки, а в голове билась одна лишь фраза – «РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ!» и летел вслед хриплый смех обреченной на гибель армии.
Казарма. Десятки людей спят вповалку на кроватях, на ворохе скомканного белья между кроватями на полу. В воздухе стоит густой смрад от немытых тел, грязной одежды, заскорузлых бинтов, гари и земли. Я пытаюсь уснуть, но опять не могу. В голове какой-то шум, будто от контузии. Открываю глаза и смотрю в темноту комнаты. Через какое-то время опять показалось, что по узкому проходу между спящими прошел прозрачный силуэт. Если даже это было следствием переутомления или легкой контузии, шумевшей в голове, то как можно было объяснить, что некоторые спящие рядом с проходом солдаты перестали стонать. Будто кто-то невидимый успокоил их раны и тревожные сны. Я напрягаю зрение, пытаясь разглядеть невидимку, но воспаленные глаза начинают слезиться, и я даю им передышку. Лежа с закрытыми глазами, я особо остро ощущал, как болит все тело и трясутся руки – сегодня весь день пришлось работать на укреплении крепости. Но когда я прислушался к себе, то понял, что эта дрожь была иной природы – это было Предчувствие. Такое чувство не обманывает. Мое время на этой войне истекало. И то, что вчера приходили парламентеры, говорило о том, что немцы готовятся начать очередной штурм. Потому что обычно они забрасывали нас письмами, где писали про свое могущество и нашу скорую смерть. А раз сегодня прислали офицера, значит все плохо, все очень плохо. Я же видел, как этот офицер смотрел в нашу сторону. Он был испуган, изрядно испуган. И если их пушки, их хваленое сверхмощное оружие не способно нас сломить, что они могут придумать в этот раз? Рогов правильно сказал – не люди они. Выглядят только как люди, а внутри чернота, звериная суть. И имея такую изнанку и в придачу к этому мощное оружие, что сможем противопоставить им мы, изможденные, усталые, раненые и оглохшие?
Предчувствие… Было странно, но от того, что я точно знал, что скоро погибну, мне совершенно не было страшно. Я даже почувствовал, как перестало трястись тело, а внутри пошло во все стороны волной умиротворяющее тепло, будто выпил стакан водки. Стало вдруг очень спокойно и хорошо. Что это? Понимаю, что рядом кто-то стоит, силюсь открыть глаза и не могу. Перед глазами вдруг отчетливо возник чудесный летний луг, усыпанный ковром белых цветов. Ромашки. В небе ярко светит солнце. Вдалеке стоит стеной изумрудный лес, над которым клубятся белые шапки облаков. Я сплю? Какой чудесный сон! Я вдыхаю в себя горячий летний воздух, пропитанный сладким запахом цветов, и смеюсь. Я вижу, как бежит ко мне по зеленой траве мой десятилетний сынишка. Он смеется. Какое это счастье видеть, как смеются твои дети! Нет ничего прекраснее этого смеха на свете! Как жаль, что для того, чтобы это понять, нужно оказаться в горниле жуткой войны, на грани жизни и смерти. Я распахиваю в сторону руки и бегу навстречу ему. Это самый лучший сон в моей жизни! Самый лучший! Спасибо тебе, ангел, за него! За этот прощальный подарок, наполнивший душу спокойствием и теплом. Сын подбегает ко мне, и я кружу его в своих объятиях, крепко-крепко прижимая к себе, словно самую большую драгоценность на свете. И плачу. Нет ничего зазорного в слезах. На войне это можно себе позволить. Тем более во сне, когда никто этого и не заметит. Ну, разве кроме еле заметного силуэта, который сидит рядом со мной и гладит меня по голове невидимой рукой, словно наблюдая за моим прощанием с сыном. Но скоро рассвет. Силуэт тает, и тает чудесный сон, выталкивая меня в будни. Я просыпаюсь и вытираю мокрые щеки. Нужно идти на построение смены стрелкового отряда. Я зябко встряхиваюсь, кажется, у меня озноб. Я улыбаюсь. Я знаю, что это не имеет уже никакого значения.
Раннее летнее утро. Небо еще не просветлело, но уже не такое темное как в полночь. Днем будет жарко, а сейчас еще веет ночной прохладой. Я прижимаюсь щекой к шероховатому прикладу винтовки и закрываю глаза. Перед внутренним взором еще стоит зеленое ромашковое поле и улыбка сына, ощущение его объятий. На смену этому видению приходит странное чувство тревоги. На войне такое случается часто – начинаешь чувствовать невидимое. Опасность, врага, ангелов, свою смерть… Вот и сейчас пришло ощущение, будто на солнце внутри моего видения набежала мрачная туча. Я открыл глаза и тут же увидел ее. Стрекозу. Она сидела прямо на затворе винтовки, глядя на меня своими огромными глазами. Я улыбнулся. Откуда она здесь? Уже давно в здешних местах не было видно ни одной птицы, ни одного насекомого. Из всех животных остался только пес Пуля. Только он смог пережить массированные атаки на крепость. Я осторожно подул на стрекозу, но та лишь поводила крылышками, оставшись сидеть на холодном металле затвора.
– Глупенькая, улетай! Ты можешь! Скоро здесь будет очень жарко и опасно. Эх, если бы я мог так же, как ты, летать. Я бы улетел подальше от людей, в поля. Далеко-далеко отсюда.
Больше всего на свете мне захотелось сейчас оказаться на том самом ромашковом поле! Обнять сына и упасть вместе с ним в высокую траву, наслаждаясь тишиной и теплом летнего солнца. Слушать треск кузнечиков, шелест стрекоз и вдыхать аромат разнотравья разогретого луга.
Стрекоза прошлась по затвору вперед-назад и, затрепетав крыльями, сорвалась в воздух. Мгновение – и ее уже не было видно. А чувство тревоги внутри становилось все отчетливей и отчетливей. Словно стрекоза прилетала предупредить о чем-то. Пронзительно закричал часовой. Я приник к бойнице и даже не понял сначала, что происходит. Сначала мне показалось, что это утренний сумрак окрасил стелющийся по земле туман странным цветом. Но тумана не могло быть столько много. И не мог он быть таким густым и иметь такой ядовитый оттенок. Огромное темно-зеленое облако метров в десять высотой застилало все пространство вокруг, неумолимо приближаясь прямо к нашим позициям. Когда я понял, что это было, то замер от ужаса. Это было видение из кошмарных снов. Демон из самых угрюмых адских глубин. Дракон, выискивающий свою жертву. Деревья при его приближении желтели прямо на глазах, а листья тут же падали на землю, срываясь с омертвевших веток. Трава чернела, превращаясь в зловещий ковер, расстилающийся перед его неслышной поступью. Это была сама Смерть, летящая на крыльях теплого летнего ветра. ХЛОР. Я начал медленно спускаться вниз, чувствуя, как ноги предательски онемели, отказываясь двигаться. Крепость встречала зеленого демона молча, словно ее защитники были околдованы его черной магией. Лишь истошно кричали что-то часовые… Невозможно было разобрать. Я смотрел как завороженный на приближение зеленого дыма, а в голове билась обреченно одна лишь мысль:
«Все… Это конец… Все…»
От этого газа невозможно было спрятаться. От него невозможно было защититься. И если со снарядами и пулями мы научились справляться, то с этим коварным изобретением ничего нельзя было сделать. Хлор, перемешанный с бромом. Он проникал везде. От него не могли защитить нас потрепанные бомбежками бетонные стены. От него не могли помочь противогазы, потому что их не было в крепости. А это значило, что жить нам оставалось всего лишь несколько минут.
Я судорожно вздохнул еще чистого пока утреннего воздуха. Я был готов умереть сегодня, но я ждал пулю или снаряд. Это была, по крайней мере, знакомая смерть. Но это… Кто вообще мог сотворить эту мерзость? Кто мог применить ее в бою, не решившись сражаться в честной битве? Прав Рогов, тысячу раз прав – это не люди там, за завесой этой смертельной дряни. Это был не человеческий поступок, трусливый, коварный, подлый, жестокий. Не люди…
И вдруг смертельную неподвижность растопила волна странной ярости внутри. Не люди. А там, за моей спиной, люди. Там родные и близкие. Которых мы защищали все это время ценой своих жизней, неимоверными усилиями, в ужасных условиях. И если эти твари пройдут по нашим трупам, то тогда все напрасно! Все наши усилия, все наши лишения и смерти… Я зарычал словно зверь, стряхивая остатки оцепенения, и сжал в руках винтовку. Нет! Я буду до последнего вздоха сражаться за них за всех: кто жив, кто умер, кому еще предстоит родиться. За своего сына! Рядом со мной все вдруг пришло в движение. Словно кто-то невидимый вдохнул в нас всех эту отчаянную ярость. Я осмотрелся по сторонам. Старые солдаты среагировали быстрее молодых. Они вытаскивали из подсумков тряпки, которыми обычно перетягивали раны, и, смочив их водой из фляг, заматывали ими лица. Я быстро достал свою тряпку и, сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, словно прощаясь с этим миром, наслаждаясь его последними чистыми глотками, намотал вокруг носа и рта. Память в это время судорожно пыталась вспомнить, что нужно было делать во время газовой атаки. Так, первое, газ обычно оседает в низине, значит, нужно было подняться куда повыше. Я посмотрел во двор – многие бойцы бежали в сторону внутреннего кольца ограждения, надеясь найти там укрытие. Но большинство оставались у стен, открыв огонь по стене зеленого дыма, медленно накрывшего собой крепость. Смертельный газ неотвратимо и торжественно вошел внутрь, начиная свою кровавую жатву.
Я инстинктивно зажмурился, почувствовав его прикосновение. Все пространство внутри сжалось от едкого яда, растекающегося по легким. Это было ужасное ощущение. Словно грудь сжала невидимая рука, выдавливая из легких остатки воздуха. Кожа в одно мгновение стала сухой, будто дракон подул на меня испепеляющим дыханием смерти. Сильно заболело за грудиной. Из воспаленных глаз хлынули слезы. В желудке заныло, и наружу хлынула тягучая рвотная масса. Я резко выдохнул все из легких и, оттянув тряпку, выблевал все прямо себе на сапоги. Открыв неимоверно щипавшие глаза, я увидел, как все вокруг заволокло хлором. Все медные детали тут же покрылись зеленым слоем окиси. Вокруг давились собственной рвотой, зайдясь в мучительном кашле, согнувшись или встав на колени, защитники крепости. Превозмогая резь в глазах, я поднял к лицу зудевшие руки и увидел, что они тоже покрылись пятнами, но не зеленого, а розового цвета. Ожоги. Следом сразу пришло ощущение нехватки воздуха. Я попытался втянуть его в себя, надеясь, что повязка хоть как-то отфильтрует хлор, но легкие словно свело судорогой. Я заметался. Нужно было срочно хоть что-то сделать. Это была инстинктивная паника. Так, наверное, дергаются рыбы, когда их выбрасывают из воды на воздух. Я опустился на колени, пытаясь заставить себя дышать, но у меня никак не получалось. Я закрыл глаза, и перед внутренним взором снова возникло на мгновение чудесное поле ромашек, залитое ярким солнечным светом. Миг, и видение исчезло. Я очнулся от того, что меня трясли. Лица бойца я не видел за грязной тряпкой, но по красным воспаленным глазам я узнал его – это был Иван Рогов. Он что-то кричал мне, но я никак не мог понять, что. Наконец я его услышал.
– Дыши не глубоко. Потихоньку. Не паникуй. Держись. Надо уходить отсюда.
Я кивнул головой, совершенно не понимая, куда можно было отсюда уйти. Хлор был везде. Он занял собой каждую нишу, каждую щелочку. От него невозможно было укрыться. Первое, что пришло мне в голову, было рвануть в сторону казарм. Но Рогов схватил меня за гимнастерку.
– Не туда! Надо в другую сторону.
И тут я понял! Отравленным мозгом я все-таки понял, что он имел в виду! Немцы не просто так выпустили газ. Они рассчитали время, когда ветер будет дуть на крепость. Тогда они развернули газовые батареи и пустили ядовитую смесь, позволяя ветру сделать все остальное. А это значило, что бежать внутрь крепости было нельзя. Там было опасней всего! Значит, бежать надо было в сторону врага. И не просто бежать… Нужно было лишь глотнуть свежего воздуха, очистить легкие, и тогда… Я сжал рукой винтовку и на слабых ногах побежал за Роговым. Глаза так слезились, что сложно было разобраться в направлении движения. Мы выскочили за бетонное ограждение, но в этот момент немцы опять начали обстрел. Десятки орудий гулко заговорили на удаленных рубежах, и на крепость снова обрушился огненный смерч из снарядов. Мы вернулись обратно, крепко зажимая лица тряпками, словно последней надеждой на хоть какое-либо дыхание.
– Нужно переждать! – было видно, что слова даются Рогову тяжело, его то и дело выворачивало от кашля, – обидно вышло…
Он не договорил, согнувшись пополам, зайдясь в очередном приступе кашля. На его тряпке проступило кровавое пятно. В это же время в небе над крепостью заалели красные ракеты, выпущенные немцами. Рогов опустился рядом со мной и посмотрел поверх окровавленной маски.
– Помрем все… Обидно. Не узнает никто, как нас здесь… потравили… В прямую испугались… Так газами… Нехристи…
Я хотел ему что-то ответить, но не смог. Язык словно прибили гвоздями к гортани. Каждый вдох был мучительнее предыдущего. Я чувствовал, что скоро все, конец. Закрыл глаза и начал молиться. А взрывы долбили и долбили вокруг, и было в этом ужасающем звуке даже что-то ободряющее – погибнуть от снаряда было гораздо предпочтительнее, чем загнуться от химии. Пол под нами подпрыгивал и, ухнув, опускался вместе с землей вниз. А зеленоватый туман все стоял вокруг непроницаемой стеной, подрагивая, будто и вправду был потусторонним существом, пришедшим к нам этим утром убивать.
Я не помню, сколько еще продолжалась эта бомбежка – скорее всего, я несколько раз терял сознание. В этих провалах мне мерещился все тот же луг, чистый журчащий ручей в траве и сын, который будто все это время ждал меня в этих странных видениях. Явь и видения перемешались. Видимо, так и ведет себя перед смертью мозг, да еще к тому же отравленный газом. Я отчетливо ощущал тепло солнечного света, чистый воздух, которым можно было дышать полной грудью, и ясно видел сына, который сидел со мной рядом на небольшом холмике, поросшем густой травой.
– Ты мне кажешься?
Мальчик улыбается в ответ, но в глазах грусть.