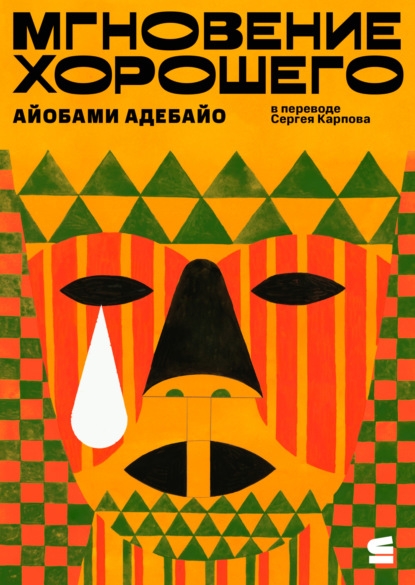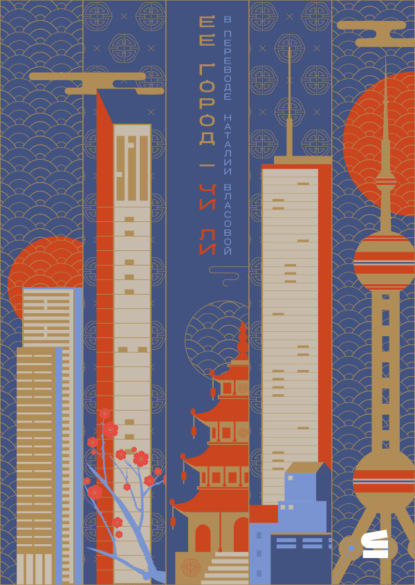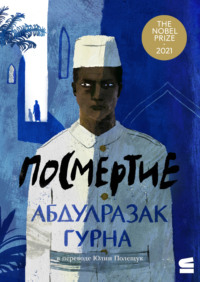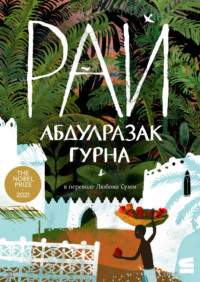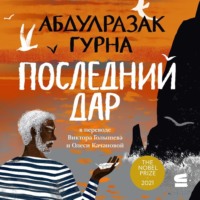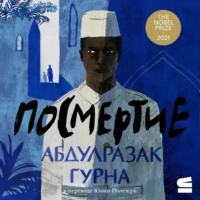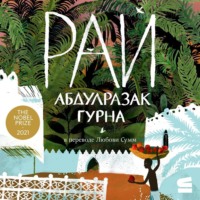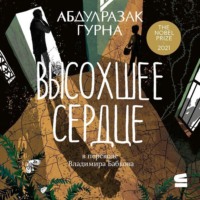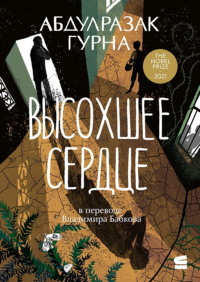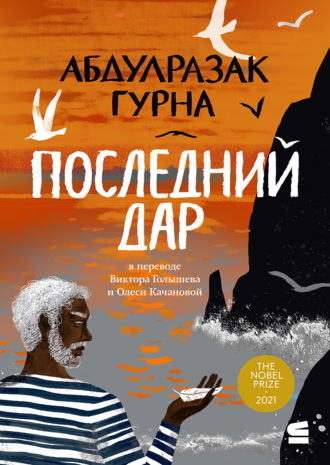
Полная версия
Последний дар
Жизнь ее решительно изменилась. Иногда она нервничала: не знала, как что-то делается, спросить Аббаса не могла, если его не было дома, но в конце дня он всегда возвращался, и она даже не представляла себе раньше, какой радостью будет для нее жизнь с любящим человеком. Его общество. Вечные рассказы, смех… правда, когда они наедине. На людях он был осторожнее, но не робел – он не боялся. По крайней мере, так говорил: не боюсь никого и ничего. Услышав это в первый раз, она не поверила. Подумала, что он рисуется, говорит это, чтобы больше ей понравиться. Видимо, на нее действовало – вот он и повторял это несколько лет. И правда, он был боевой в те годы. Никто не смеет на них наезжать или морочить их. Она думала, что говорит он так, чтобы поднять им дух, придать уверенность, – и получалось, получалось. Но когда не хвастал, был нежен с ней и, может быть, немного тревожен – она не знала, из-за чего и есть ли за этим что-то конкретное. Она была молода, легко принимала всё как должное, ни из-за чего особенно не беспокоилась – ни тогда, когда он рассказывал уморительные истории о своих странствиях, ни тогда, когда эти истории бывали печальными. По выходным они могли валяться в постели до середины дня. Ходили в кино, если было настроение, угощались жареным мясом в кафе по соседству. Она думала, что он будет скучать по морю, но он говорил: нет, с него хватит. «Какое счастье, что нашли друг друга, – думала она, – какое везение!»
Хорошо жилось в Бирмингеме. Оба работали, хотя работа была неважная, и первые три года пролетели. Иногда она вспоминала Феруз и Виджея, с противным чувством вины оттого, что сбежала не попрощавшись. Когда заговаривала об этом с Аббасом, он молчал. Не сочувствовал и не осуждал в те дни. Опускал глаза и молча ждал, когда пройдет у нее боль, и в ту пору боль чуть погодя проходила. Удовольствие доставляли самые простые дела: покупка кастрюль и сковородок, украшение ванной комнаты в их съемной квартире, слушание музыки, которую, ей раньше казалось, она не переносит. Он любил читать, а ее к чтению никак не тянуло. Оно отнимает много времени, а кругом полно занятий, столько времени не требующих. Иногда он рассказывал о прочитанном в книге, и ей этого было достаточно. Она любила слушать его рассказы о местах, где он побывал, о происшествиях, таких удивительных, что прямо для книги. Она заметила, что в какой-то момент он останавливается, обрывает рассказ, и вскоре пришла к выводу, что не рассказывает он о детстве, о тогдашнем своем доме. Когда спрашивала, он ускользал от объяснений, и она не настаивала – хотя, наверное, надо было. После стольких лет, прожитых вместе, и всякого пережитого она не знала, как заставить его говорить о том, о чем позволяла молчать так долго. Тогда это не казалось важным – у них еще не было детей. А она их хотела, все годы в Бирмингеме. Сразу же хотела Ханну, но Аббас сказал, что она еще молода, надо несколько годков подождать. Они спорили. Она знала, что на самом деле он старше, чем говорит, что на самом деле ему было тридцать четыре года, когда они познакомились в Эксетере, и думала, он уже не хочет детей, привык к бродячей жизни, но он сказал: нет, просто она еще молода, рано обременять себя детьми.
После трех лет в Бирмингеме, пролетевших совсем незаметно, они переехали в Норидж. Аббас подал заявление в новую фирму электроники, и его приняли. Пришлось пройти переподготовку. Работа была гораздо лучше прежней, с хорошей зарплатой, пенсионным планом, и они решили, что им больше нравится жить в маленьком городе. Аббас был рад, что море близко. Сначала он назывался наладчиком, со временем сделался механиком, а затем, еще позже, вырос до главного механика. Она пошла в Центр трудоустройства, сотрудник спросил ее, какой работой она занималась в Бирмингеме. Она ответила, что была уборщицей в больнице; он улыбнулся и сказал: «Вам повезло», – и она снова стала уборщицей в больнице. Она сказала себе, что в работе уборщицы есть свой смысл – ты наводишь чистоту, – и согласилась. В детстве, когда жила с Феруз и Виджеем, она мечтала работать в больнице – стать сестрой в психиатрии, как Феруз. Вот в больнице она и проработала почти всю взрослую жизнь, хотя и не медсестрой в психиатрии.
Мариам задержала взгляд на фотографии и спросила:
– Как по-твоему? Он всё же хорошо выглядит, а? Знаешь, почти никогда не болел. Но так вот и бывает: всю жизнь здоров, и вдруг всё сыплется.
Он думал, что может уже не оправиться. Годами страшился этого, наступления этого страшного, смерти в чужой стране, которая его не хочет. Это было много лет назад, но страна так и ощущалась чужой. Местом, которое он однажды покинет. В некоторых портовых городах, где побывал когда-то, были целые районы, населенные сомалийцами, или филиппинцами, или китайцами, и там иногда забывалось, что в Англии он сам недолго. Несмотря на свою обтрепанность, жители этих районов настороженно наблюдали за чужаками. Эти люди, жившие далеко от родины, здесь держались кучно для безопасности, бдительно охраняя свою честь, иначе говоря – своих женщин и имущество. Но и не в портах ему иной раз встречался темнокожий старик, одиночка (чаще – старик, редко когда старуха), и он их жалел. Они выглядели такими чужими, эти старики, с задубелой темной кожей и курчавыми седыми волосами, когда шли по английским улицам, словно животные, попавшие в чужую среду, толстокожие, на бетонных тротуарах. «Себя я до такого не допущу, – думал он. – Не позволю себе умереть в чужой стране, которая меня не хочет», – и вот он где: почти что на тележке в крематории.
Врач мистер Кенион… Поначалу он думал, что фамилия его Кения, и подумал еще: «Как странно, они повсюду расселились и не стыдятся называть себя именем захваченных стран!» – но врач сказал: «Кенион». Почему они с возрастом начинают называть себя «мистер», а не «доктор»? Мистер Кенион сказал ему, что пострадают некоторые функции. Парализуются. Но некоторые могут восстановиться. Физиотерапия и не падать духом. Важен настрой. Так, что ли? Слух не нарушен, пострадала речь. Он может издавать звуки, но не произносить слова. Удивительно, как возникают слова, смысл из этого бульканья, посвистывания. «Мы это восстановим», – сказал мистер Кенион. Да, бвана, вы и я.
Такой усталости он никогда не испытывал. Как будто вытекли из тела жизненные соки, и, когда его отправили домой, он часами сидел, неподвижно и безвольно, не в силах поднять руку, встать на ноги или хотя бы закрыть рот. Даже глаза не всегда мог открыть, а мысли блуждали или совсем останавливались. К его изумлению, часы проходили в мгновение ока. Он не выносил голоса и музыку по радио, тишина окутывала его и сгущала воздух вокруг.
Он почти ничего не делал самостоятельно. Мариам мыла его, кормила, давала лекарства, он этого не замечал. Раз в неделю она отвозила его в больницу: одевала его, помогала спуститься по лестнице, шажок за шажком, и везла в машине. Пока она обсуждала с доктором его симптомы и лечение, он сидел и молчал. Они с доктором были давними противниками, и Аббас улыбался, глядя, как они препираются над его немощным телом. Он надеялся, что улыбается про себя и по лицу ничего не видно. Доктор хотела, чтобы он упражнялся, каждый день выходил погулять.
– Вы любите читать, – говорила она, чеканя каждое слово, как будто у Аббаса был непорядок со слухом, хотя слух у него не пострадал. – Пройдитесь до библиотеки, почитайте там. Вам очень важно двигаться. Говорите себе, что вы поправитесь. Настрой очень важен в терапии.
«Настрой» – наверное, это слово произнес тогда мистер Кенион.
«Спать не могу», – хотел он ей сказать. Нормально спать, всё мешает: голова, горло, желудок, – но выходили только хриплые звуки. Он лежал на кровати с открытыми глазами, стараясь поменьше шевелиться. Мариам спала на раскладушке, всунув ее между гардеробом и окном, всю кровать предоставила ему. «Чтобы тебе было просторнее», говорила она, – но, может, и для того еще, чтобы быть подальше от его старческого запаха. И всё равно он часто не мог заснуть. Ее будил малейший звук, поэтому он лежал, застыв, дожидаясь, когда станет ровным ее дыхание. Но иногда не мог совладать с собой, тошнота и боль в животе одолевали его, и он слышал свои крики в подземных залах сознания, снова и снова, будто кричало умирающее животное. А иные ночи лежал не шевелясь, не в силах уснуть, и где-то в уголках сознания, где затаилась боль, возникали зеленые и красные вспышки, дожидаясь ее приближения.
От дороги вела заросшая тропинка, ее легко было пропустить, когда забыл, чего ищешь. Он шел домой из школы. Идти было далеко, по проселку, иногда отступать в сторону, чтобы дать дорогу телеге или грузовику с пассажирами. Вдоль обочин густо росли деревья, пальмы, они укрывали от послеполуденного жаркого солнца. От школы до дома был час ходу. Его единственного в семье отдали в школу. Какие были сражения из-за этого! Когда он показывался из-за деревьев, его встречал взгляд отца. Отец плел корзину для овощей, которые завтра отправятся на базар; он прерывал работу и кричал ему: «Берись за работу, бездельник! Думаешь, у тебя тут рабы?»
Таков был отец. Его имя было Отман, суровый человек, он наслаждался своей крутостью и разговаривал исключительно криком. А теперь, лежа в потемках, разбитый болезнью, в чужой стране, Аббас видел отца, стоящего во дворе под вечерним солнцем: саронг подвернут до бедер, и на пне перед ним наполовину сплетенная корзина. В ногах у него лежит короткая мотыга, с которой он никогда не расставался. Низкорослый, мускулистый, с твердым, как кулак, телом, он смотрел на Аббаса с нескрываемой свирепостью. Он на всё так смотрел, готовый сцепиться с кем угодно – с человеком или зверем, – и выражение ярости на его лице нисколько не смягчали большие очки в толстой оправе, которые он носил постоянно, снимая только перед сном. Чем бы ни занимался он, вид у него всегда был грозный – и вместе с тем комический. Аббас мечтал об обеде, но знал: если заикнется о нем, это вызовет тяжелый гнев отца. Поэтому он попросил разрешения сначала прочесть молитву, рассчитывая перехватить что-нибудь из съестного, отложенного для него матерью. Отец улыбнулся в ответ на его уловку, но, будучи человеком набожным, не мог в этом отказать.
– Поторопись, – сказал он. – Не заставляй Бога ждать, и меня тоже.
У них был небольшой участок, акра два, с фруктовыми и кокосовыми деревьями, росшими как попало, словно их не высадили, а занесло сюда случайно. Кроме того, отец выращивал овощи на продажу, и никто в семье не был освобожден от ежедневной работы на огороде. Он не уставал объяснять детям, что вырос в нищете, тяжело трудился всю жизнь и не хочет снова стать нищим. Никто в его доме не будет жить на дармовщину. Все должны работать за пищу, которой он их кормит. Его сыновья были его батраками, и он заставлял их работать так же усердно, как он сам. Жена и дочь были чем-то вроде служанок, watumwa wa serikali, государственных рабынь, говаривала мать. Они носили воду и дрова, стряпали и убирались, исполняли любое требование, весь день от восхода до заката. Будь проклята эта собачья жизнь!
Единственной слабостью отца были голуби. Ничего особенного не было в этих голубях: ни длинных хвостов, ни яркого оперения. Обычные серые плебеи, каких полно и в городе, и в сельской местности, но он строил им домики, горстями сыпал им просо, смотрел, как они слетаются вокруг него во двор, и с ненавистью отгонял ворон и кошек. Своих детей не защищал так, как их. Не позволял детям гоняться за ними, так что одним из бунтарских удовольствий у них было подбить голубя из рогатки и зажарить на костре где-нибудь подальше от дома. Но даже голуби не отвлекали его надолго от неослабного наблюдения за своим каторжным лагерем.
Так они работали, вся семья, но жили тяжело и скудно, впритык, без малейших удобств. И всё потому, что отец был скуп. Он ненавидел тратить деньги. Он вырыл яму в земле у себя под кроватью и там держал запертую шкатулку с деньгами. Потом сколотил крышку над ямой и запер на висячий замок. Это было как зарок, или клятва, или обет – тратить как можно меньше денег. Они ходили в обносках, спали на тюфяках на полу. Мяса почти не ели, а когда случалось, это были козьи бабки, сваренные в супе. Он был скуп – скуп на деньги и скуп в своем взгляде на мир. Allah karim, – говорил он, когда кто-нибудь из соседей по какому-то экстренному случаю просил в долг. «Бог щедр. У него проси в долг, не у меня». И всё же они были благополучнее своих деревенских соседей: жили в каменном доме, с уборной в тыльной части, а не в глинобитной хижине с отхожим местом в кустах. Из-за тяжелой обстановки в семье и бесконечного труда Аббас ощущал свое отличие от других детей. Те жили так же скудно, но находили время шататься по окрестностям, совершать налеты на фруктовые сады, играть подолгу в войну, тогда как сам он мчался домой перехватить кассавы или банан и трудиться на земле. Скудость – это слово он усвоил позже, но когда усвоил, оно правильно описывало его детство, и сам звук его напоминал ему о зловещей и ненужной нищете их жизни.
У него было двое братьев и сестра, он – младший. Однажды – ему было лет семь – самый старший из них, Кассим, отвел его в школу: дорога была трудная, по меньшей мере мили полторы от дома. Отцу это не нравилось. «Научат в школе одному – лентяйничать и чваниться», – сказал он. Но Кассим часто видел школьников, когда ждал автобуса, чтобы отвезти в город кокосы, окру и баклажаны. Он видел, какие они веселые и чистенькие, эти дети. Слышал их голоса через дорогу, их стишки и болтовню. Аббасу были знакомы эти звуки – иногда он сопровождал брата в город, чтобы помочь и поучиться, потому что когда-нибудь ему самому придется возить продукты на рынок, но главное, потому что брат понимал, как ему нравится ездить на автобусе. Он был еще мал, мог ездить бесплатно, поэтому отец не противился.
Они дожидались автобуса под деревом и слышали, как малыши на другой стороне дороги читают и тихо заучивают стихи. Эти звуки вызывали у Аббаса улыбку, он надеялся, что и ему когда-нибудь выпадет такое счастье. Он понимал, что и Кассиму такого же хотелось бы. И сказал ему об этом. Кассиму было тогда тринадцать лет – тощий мальчик, труженик всю свою жизнь. Он был уже глуп для школы. Ему уже поздно. Так он сказал Аббасу, когда они стояли под деревом, через дорогу от школы, и ждали автобуса. Брат Кассим. Позже в кафе, куда они зашли съесть булочку и выпить чаю, по радио кто-то говорил, что долг каждого – отдать своих детей в школу, и как это благородно – искать знаний, даже если придется отправиться за ними в Китай. Брат спросил, кто это говорит, и им сказали, что это новый кади, просвещенный человек, он хочет изменить жизнь, хочет, чтобы люди задумались о своей жизни. Он проповедовал по радио каждую неделю, говорил, что люди должны думать о своем здоровье, думать о своем питании, быть щедрыми с соседями, и говорил, что забота об этом – их долг перед Богом. В каждой проповеди он что-то говорил о необходимости отдавать детей в школу.
Однажды созвали собрание под большим деревом, и поговорить с ними приехал человек из правительства. Дело было в пятницу днем, после молитв, а под деревом – потому, что в ближайшей мечети все не помещались. Отец был там, и Кассим, и другой брат, Юсуф, такой молчаливый, что получил кличку Kimya (тишина). Кассим, и Kimya, и их младший брат Аббас, тоже kimya, – дети скупого Отмана. Человек из правительства был высокий, худой и одет в канзу и куфию. Он помолился с ними перед тем, как выступать, а потом заговорил с такой же настойчивостью, как кади по радио. Он сказал им, что войны теперь нет и правительство готово улучшить жизнь своих граждан. Для Аббаса война была новостью, но позже он поймет. Год был 1947-й. Человек из правительства долго говорил о пользе образования и всем советовал отдать детей в школу в новом году, который вскорости начнется. Домой шли молча, отец, как всегда, шагал впереди, а трое братьев следом, со своими мыслями.
Вечером перед всей семьей Кассим сказал, что Аббаса надо отдать в школу. Отец фыркал и грозился, все примолкли, но Кассим не отступал. Он спорил, ныл, упрашивал отца целыми днями. Хватит того, что все они тупые вьючные животные, но раз правительство хочет, чтобы молодые ходили в школу, мешать этому неправильно, говорил он. Какой от этого вред? Отец пытался заткнуть Кассима, ругался – «ты ничего не понимаешь, глупый щенок», – но сын продолжал уговаривать, и тогда он просто перестал слушать и отвернулся. И в день начала занятий, через две недели после собрания под деревом, Кассим, ни слова не сказав отцу, взял Аббаса за руку и отвел в школу. Днем, когда уроки кончились, Кассим уже ждал его, чтобы отвести домой, и Аббас увидел, что брат в синяках от отцовских побоев. Но на другое утро Кассим опять взял его за руку и отвел в школу – и на этом споры закончились. Аббас молча лежал в темноте, вспоминая тот первый день, вспоминал брата, и на глаза у него наворачивались слезы.
Это было первое важное событие в его жизни – школа в Мфенесини. Он годами избегал думать о тех событиях, и иногда удавалось даже убедить себя, что многое из этого забыл. Он плакал в темноте и о брате Кассиме, и о себе в то январское утро 1947 года, плакал старческими расслабленными слезами о двоих людях, теперь пропавших под грузом паники и вины. Он очень старался не думать о многом, и долгие годы это будто бы удавалось, – но вдруг ударит врасплох, выскочив невесть откуда и свирепо. Может быть, так и у других людей, которые ныряют, и увиливают от ударов жизни, и вздрагивают от них, и выстраивают корявый заслон от крепнущего противника. А может, жизнь вовсе не такова у большинства, и время приносит им покой и умиротворение, – но ему не так повезло, или он не оценил свое везение. Сколько ни уклонялся, он понимал, что время изнашивает его, и всё труднее было отмахнуться от того, что он должен был привести в порядок и не удосужился. Теперь он болен и изношен, и не может занять себя или отвлечься – лежит в темноте и ждет наступления боли.
«Эта школа в Мфенесини. Думай о школе в Мфенесини». Он мысленно рисовал схему. Было три корпуса: большой, фасадом к дороге, и два поменьше с боков, под прямым углом к нему – незамкнутый четырехугольник. Между средним корпусом и дорогой были клумбы и кусты; на одном из них висел кусок рельса – школьный звонок. Дежурный учитель, как его называли, держал на столе будильник и, когда перемена заканчивалась, велел одному из учеников своего класса бежать во двор и дважды ударить по рельсу железным прутом, висевшим тут же. В большую перемену и в конце уроков он сам шел к рельсу и сам выбивал энергичную веселую мелодию – дети радостно кричали. Стены классов были высотой в три фута. Дверей и окон не было, дети могли увидеть и услышать, что делается в других классах, – то есть если бы осмелились поглядеть. За одним из боковых корпусов был двор, там играли на переменах, а за ним – уборные. Каждый день после уроков их чистили все классы по очереди. «Полезно приучиться соблюдать чистоту», – говорили учителя. Дома они живут в грязи, как будто Бог дал им такое право. Здесь, в школе, они узнают преимущества чистоты и здоровья. Учителя были свирепые и чаще кричали, чем разговаривали, большинство из них расхаживали с палкой из гуавы, или тростью, или линейкой и грозно трясли ими, требуя порядка, а при надобности – били. Били на самом деле не серьезно, и после первого года дети вообще делали вид, что линейка или палка не причиняют боли. Это часть школьной жизни, это заставляет тебя учиться.
Когда он был нужен, отец на несколько дней забирал его из школы. Делал это с торжеством, словно восставал против жестокого закона. Аббаса отправляли полоть, или упаковывать, или делать что-то еще, для чего он годился по возрасту, и отец их, скупец Отман, злорадно показывал детям, что все в доме обязаны работать за еду. Из-за этих перерывов Аббас отстал в школе на целый год: вдобавок к неделям, когда отец удерживал его дома, он заболел лихорадкой и долго пролежал в постели. Учителя выговаривали ему за пропуски, но это была сельская школа, и не ему одному приходилось пропускать занятия. Несмотря на свое презрение к наукам, отец по дороге в город иногда заглядывал в школу, ходил по классам и, отыскав малолетнего сына, с насмешливой улыбкой наблюдал за происходящим. Но была и невольная теплота в этой улыбке, и, вспоминая о ней – если она и вправду была, – Аббас сам улыбался. А может, было это всего лишь старческим сентиментальным вымыслом. И не было никакой невольной теплоты в улыбке отца, а только презрение.
В общем, была улыбка или не было ее, у дороги росло громадное дерево, а напротив, через дорогу, – школа. В учебное время, даже в перемену, переходить дорогу запрещалось. Он не помнил, чтобы им объясняли причину. Школьным правилам надо подчиняться, а не обсуждать их. Как будто, перейдя дорогу, исчезнешь в листве – хотя классы были открыты солнцу, а территория школы не ограждена ни стеной, ни забором. Наверное, учителя просто хотели, чтобы ученики всё время были на глазах, в безопасности. Дети, когда была возможность, наблюдали за людьми под деревом. Это был маленький деревенский рынок, там продавали и покупали фрукты, овощи, яйца, дрова. Был киоск с чаем и закусками. Он часто думал об этом рыночке под деревом – нет, может, даже не думал, а перед мысленным взором вставал образ, когда он засыпал или уплывал в воспоминания. Образ, являвшийся ему, обладал глубиной и фактурой – это была не картинка. Он ощущал теплый ветерок, слышал смех людей, покупавших и продающих. Иногда появлялась новая подробность – лицо, о котором он сорок лет не вспоминал, происшествие, значение которого он осознал столько времени спустя. Подобные места он видел по телевизору – не Мфенесини, но похожие. И когда он видел эти места, он и Мфенесини видел яснее. Как это случилось? Однажды они смотрели по телевизору что-то о Судане, увидели рынок под деревом, и он сказал: «Мфенесини».
– О чем ты? – спросила Мариам.
– Там я ходил в школу, – сказал он.
Она попросила написать слово – хотела узнать, как оно пишется. Ему надо было бы продолжать. Дети уехали, времени стало больше, можно было продолжать рассказ, но он умолк, и она не просила его рассказывать дальше.
Наверное, учителя нервничали из-за автобусов: ездили они не так часто, но появления их нельзя было предугадать. Иногда они час не появлялись и больше, и вдруг вылетал неизвестно откуда набитый людьми автобус и останавливался у рынка. Если он ехал в город, то загружался продуктами, а если из города, то останавливался, чтобы высадить людей. Этот рыночек был маленькой пыткой для детей. Они не могли оторвать взгляд от кипучей деятельности под деревом. Учителя требовали от них полного внимания, а это значило, что они были обязаны смотреть прямо перед собой, даже когда учили наизусть таблицу умножения или слушали учителя, читавшего какой-нибудь рассказ. Отвлекшемуся непременно доставалось по уху. И непременно – мальчику, девочек учителя-мужчины не били, а учителя все были мужчины. Если учитель стукал девочку, приходили с жалобой ее родители, как будто он совершил непристойность.
Если что-то случалось под деревом – драка или кто-то падал с велосипеда, – вся школа – ух! – вскакивала на ноги, забыв об учителях. Вспоминая это, Аббас улыбался. Учителя изо всех сил старались поддерживать тишину и порядок, словно это было делом их чести. Иногда, стоило кому-то почесаться или заерзать, они воспринимали это чуть ли не как свой позор. Как же они любили покорную тишину! Но долго поддерживать ее они не могли. Не могли всё время держать детей в узде. Вечно что-то случалось: маленький бунт, взрыв смеха, дерзкий мальчишка, нечувствительный к пощечинам.
После стольких лет, после всего, что случилось потом в жизни, это время представлялось безмятежным. Он ходил в школу, работал на земле, иногда шатался с другими мальчишками. Самое памятное было связано со свадьбой сестры Фавзии. Она была самой старшей из них и уже упрямилась, бунтовала против отцовских порядков, весь день ныла и жаловалась тонким голосом, вставала на дыбы после каждого выговора, убегала и где-то пропадала часами. Ей было тогда лет семнадцать, и эти исчезновения сильно ускорили ее замужество. Нельзя, чтобы девица пропадала где-то часами. Чем она там занимается, портит себе репутацию и позорит семью? В свои одиннадцать лет Аббас еще не знал, как устраиваются такие дела, но жених ей был найден, и приготовления к свадьбе начались.
Отец без конца жаловался на траты. Расходы на свадьбу съели все его сбережения, говорил он. Никто ему не верил, хотя известно: свадьбы оставляли семьи нищими. Родители тратили всё накопленное или залезали в долги, чтобы дать серебро, золото и деньги в приданое. Устраивали пир, чтобы все родственники и любой присоседившийся бездельник могли набить животы жарки́м и мороженым. Раскошеливались, чтобы не было позорных сплетен. Их называли бы скупцами, если бы они не наполнили жадные животы гостей, которых даже не приглашали, но не могли прогнать. Отец не возражал против того, чтобы его сочли скупцом. Таким он слыл уже, и его это нисколько не смущало. Но раскошелился по полной, как полагалось. У него нет выбора, твердила ему жена, иначе он опозорит дочь. Так что накрыли богатый стол, приехали повара из города со своими котлами, блюдами, сбивалками для мороженого. Детвора возбудилась немыслимо. Недалеко от дома привязали теленка, он жалобно мычал, словно знал, что его ожидает, а рядом сидели, жужжали мальчишки. Ждали, когда придет резак и зарежет его. Пришел, но разогнал их перед тем, как начать. Развели костры из душистого дерева, и в воздухе повис аромат бирьяни. Заиграли барабанщики, из города и других мест потянулись гости. Женщины ушли на площадку, отгороженную пальмовыми ветвями, а мужчины оставались под навесом, здоровались, разговаривали, хлопали друг друга по плечам, смеялись. Отман отложил свою короткую мотыгу, он был в новом канзу – белом халате, специально сшитом по этому случаю, – и в куфии, шапке без полей. Ее подарил отец жениха. На плечи он накинул шелковый платок, извлеченный из сундука в его спальне и пропахший камфарой. Ему как-то удалось подавить огорчение, вызванное безумными тратами, и даже выглядеть отчасти горделиво в новом убранстве. Потом были пир, барабаны и пение до поздней ночи, и мальчишки, спрятавшись в кустах, глядели на женщин, танцевавших за пальмовой оградой.