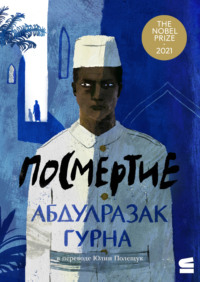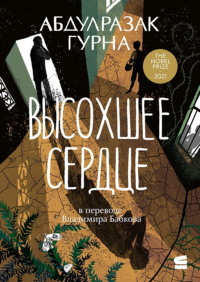Полная версия
Последний дар

Абдулразак Гурна
Последний дар
Copyright © Abdulrazak Gurnah, 2011.
First published in 2011 by Bloomsbury Publishing.
Издается с разрешения автора при содействии его литературных агентов Rogers, Coleridge and White Ltd.
© Абдулразак Гурна
© Олеся Качанова, перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. Строки, 2023
* * *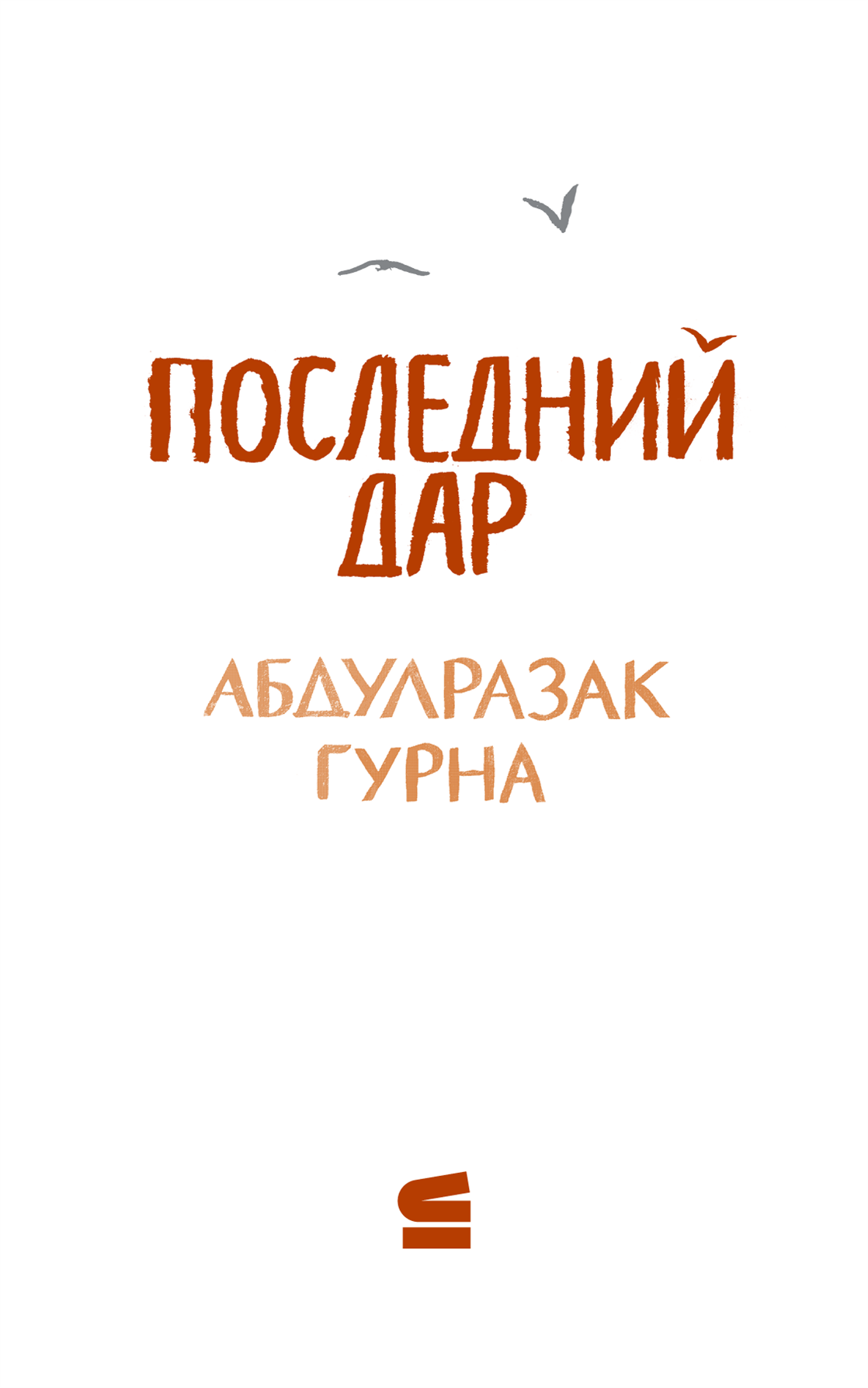
Однажды
1Однажды, задолго до неприятностей, он украдкой выскользнул из дому и больше не вернулся. А сорок три года спустя упал на пороге своего дома в английском городке. Час был поздний, он возвращался с работы, да и вообще было поздно. Он слишком долго откладывал, и винить было некого, кроме себя.
Он чувствовал приближение катастрофы. Не со страхом перед крушением, который жил в нем с тех пор, как он себя помнил, а с таким чувством, как будто надвигается на него что-то упорное, мускулистое. Это не был удар из ниоткуда, а скорее похоже на то, что какой-то зверь медленно повернул к нему голову, узнал его и двинулся его душить. В голове было ясно, силы вытекали из тела, и в этой ясности он подумал – не к месту, – что так, наверное, умирают с голоду, или на морозе, или когда булыжник вышибает из тебя дух. Он даже поморщился, несмотря на тревогу: смотри, какую мелодраму устраивает усталость.
Он ощущал усталость, уходя с работы, – такая усталость, бывало, наваливалась на него в конце дня, а в последние годы всё чаще: хотелось сесть и ничего не делать, пока слабость не пройдет или чьи-нибудь сильные руки не поднимут его и не доставят домой. Он состарился – или старел, если сказать мягче. Желание было как будто знакомое, как будто вспоминалось что-то из давнего прошлого – как его подняли и доставили домой. Но он не думал, что это – воспоминание. Чем старше он становился, тем более детскими казались иногда его желания. Чем дольше он жил, тем ближе придвигалось его детство и всё меньше казалось далекой фантазией о чьей-то чужой жизни.
В автобусе он пытался понять причину своей усталости. И пытался уже столько лет разобраться, найти объяснения, которые ослабят страх перед тем, что преподносила ему жизнь. В конце каждого дня он прослеживал свои шаги, пытаясь определить ошибки, из-за которых обессилел к концу, – словно знание этого (или осознание) могло утешить. Во-первых, возраст, изношенность незаменимых деталей. Или утренняя спешка перед работой, хотя никому нет дела, если он опоздает на несколько минут, а его до конца дня будут мучить одышка и изжога. Или заваренная в общей кухне чашка паршивого чая, после которого бурчало в животе и подкрадывалась изжога. Молоко целый день стояло в кувшине, незакрытое, собирало пыль, поднятую входящими и выходящими. Не надо было трогать это молоко, но он не мог устоять перед соблазном. Или потратил много сил, неумело и без нужды поднимая и двигая тяжелые вещи. Или просто заболело сердце. Он никогда не знал, в какую минуту оно заболит, с чего и надолго ли.
Но сейчас, в автобусе, он чувствовал, что с ним происходит что-то необычное. Накатывала беспомощность, отчего он невольно хныкал, его плоть разогревалась и съеживалась, заменялась неведомой пустотой. Происходило это медленно, дыхание сбилось, он дрожал, потел и видел себя кучкой, человеческим оползнем – тело ожидало боли, растекалось. Он видел себя со стороны, в легкой панике от медленного, неостановимого распада грудной клетки, бедренных суставов, хребта, словно тело и сознание отделялись одно от другого. Резко кольнуло в мочевом пузыре, и он задышал часто, испуганно. «Что с тобой? Припадок? Прекрати истерику, дыши глубже», – приказал он себе.
Он вышел из автобуса, дрожа от слабости, заставляя себя глубоко дышать. Февральский день выдался неожиданно холодным, и он был одет не по погоде. Люди вокруг были в тяжелых шерстяных пальто, в шарфах и перчатках, зная по опыту, какой холод их ждет на улице, – а он, прожив здесь много лет, как будто не знал. Или, в отличие от него, люди слушали сводки погоды по радио и телевизору и радовались, что у них есть одежда на такой случай. А он из месяца в месяц носил одно и то же пальто, спасавшее от дождя и холода, но и не слишком теплое для мягкой погоды. Он так и не привык набивать шкаф одеждой и обувью для разных случаев и сезонов. Это была привычка к экономии, он мог уже об экономии не заботиться, но расстаться с привычкой не мог. Он любил донашивать вещи, в которых ему удобно, и ему нравилось думать, что если бы повстречался с собой, то узнал бы себя издали по одежде.
В этот холодный февральский вечер он расплачивался за свою умеренность, или скупость, или аскетизм – за что-то такое. А может быть, дело было в беспокойстве, ощущении себя пришлым, не сросшимся с окружением – легко одеться и тут же сбросить всё с себя, когда понадобилось тронуться с места. «Поэтому и холод», – думал он. Неправильно оделся по глупости, и от холода била дрожь – внутренняя, неудержимая, костяк его готов был вот-вот распасться. Он стоял на автобусной остановке, не зная, что делать, слышал собственный стон и сознавал, что потеряна связь с окружающим, словно задремал на миг и очнулся. Он заставил себя идти, руки и ноги будто лишились костей, и дышал тяжело и отрывисто. Ступни налились свинцом, онемели, от них растекался холод по всему телу. Наверное, надо было сесть, подождать, когда отпустит спазм. Но нет, сесть можно только на тротуар, его примут за бродягу, а то и вообще больше не сможет встать. Он заставил себя двигаться, один трудный шаг за другим. Главное – добраться до дома, пока не иссякли силы, пока не свалился в этой пустыне, где тело его разорвут и разбросают куски. Дорога от автобусной остановки до дома занимала обычно семь минут – шагов пятьсот. Иногда он считал их, чтобы заглушить шум в голове. Но в этот вечер дорога заняла, наверное, больше. Так казалось. Он даже не был уверен, что хватит сил. Казалось, он обгонял кого-то, но временами спотыкался и вынужден был на несколько минут или секунд прислониться к стене. Уже невозможно было понять. Зубы стучали, и, подходя к двери, он обливался по́том. Он открыл дверь и сел в передней, больше не сопротивляясь жа́ру и тошноте. И какое-то время ничего не помнил.
Его звали Аббас, и приход его был шумным, хотя он этого не сознавал. Его жена Мариам услышала, как он возится с ключами и как захлопнулась дверь, а обычно он входил тихо. Иногда Мариам даже не слышала, как он вошел, и он появлялся перед ней с улыбкой, довольный, что опять застал ее врасплох. Такая у него была шутка – чтобы она вздрогнула от неожиданности его появления. В этот вечер она вздрогнула от звука ключа в замке и в первую секунду обрадовалась, как всегда, его приходу. Но потом хлопнула дверь, и послышался его стон. Она вышла в переднюю: он сидел прямо перед дверью, раскинув ноги. Лицо было мокрым от пота, он тяжело дышал, растерянно моргая.
Мариам опустилась на колени рядом.
– Аббас, Аббас, что с тобой? Ах!
Она взяла его потную ладонь. Как только она до него дотронулась, он закрыл глаза. Он сидел с открытым ртом, тяжело дышал, и промежность у него была мокрая.
– Я вызову скорую, – сказала она.
Она почувствовала, что рука его чуть сжалась, и он со стоном выдавил:
– Нет. – А потом шепотом: – Дай отдохнуть.
Она села на корточки, испуганная его беспомощностью, не зная, что делать. Тело его напряглось от приступа боли или тошноты, и она снова сказала: «Аббас, Аббас» и крепче сжала его руку. Немного погодя он почувствовал, что успокаивается.
– Что ты наделал? – сказала она шепотом, ему и себе. – Что ты сделал с собой?
Почувствовав, что он хочет встать, она обняла его одной рукой за плечи, помогла подняться по лестнице. Не доходя до спальни, он снова задрожал, и Мариам, приняв на себя его вес, почти втащила его по последним ступенькам к кровати. Она торопливо раздела его, обтерла мокрые места и укрыла. Почему надо было сперва раздеть его и вытереть и только потом укрыть, она даже не задумалась. Наверное, это было инстинктивное уважение к достоинству тела. Потом легла рядом с ним на одеяло; он дрожал, стонал, всхлипывал и повторял: «Нет, нет», снова и снова. Когда дрожь и всхлипывание затихли и казалось даже, что он стал засыпать, Мариам спустилась и позвонила в неотложную помощь. Врач появилась через несколько минут – неожиданно для Мариам. Это была молодая женщина, Мариам раньше не видела ее в больнице. Она вошла стремительно, с приветливой улыбкой, словно ничего исключительного или пугающего не произошло. Вслед за Мариам она поднялась наверх, посмотрела на Аббаса и огляделась – куда поставить сумку. Все ее движения были обдуманными, словно она убеждала Мариам не паниковать, и в самом деле присутствие врача Мариам несколько успокоило. Врач осмотрела Аббаса, измерила пульс, прослушала стетоскопом, проверила давление, посветила фонариком в глаза, взяла пробу мочи и опустила туда лакмусовую бумажку. Потом стала расспрашивать его, что случилось, и повторяла вопросы, пока не получала внятного ответа. Манеры и речь ее были вежливыми, заботливыми, но не озабоченными, и она даже находила время улыбнуться Мариам, пока обсуждали, что надо делать дальше, – зубы у нее были ослепительно-белые, а русые волосы блестели в свете лампы. «Как их учат быть такими?» – удивлялась про себя Мариам. Как их научают обращаться с поврежденными телами так спокойно и уверенно? Как будто она имеет дело с испортившимся радиоприемником.
Доктор вызвала перевозку, и в больнице Мариам сказали, что у Аббаса случился диабетический криз – не кома, но достаточно серьезный. Сказали, что это поздний диабет, который развивается у пожилых. Обычно он лечится, но, поскольку больной о нем не знал и не получал лечения, случился криз. Сейчас трудно определить в точности, насколько серьезны могут быть последствия. Был ли диабет в его семье? У родителей, дядьев, теток? Аббас сказал, что не знает. На следующий день его осмотрел специалист – сказал, что угрозы жизни нет, но, судя по моторике, возможно, есть мозговые нарушения. Пугаться не надо. Некоторые утраченные функции могут восстановиться, а могут и нет. Время покажет. Кроме того, он перенес небольшой инсульт. Регулярное обследование прояснит картину и стратегию лечения, а пока что он останется под наблюдением в больнице еще на день и, если осложнений не будет, может отправляться домой. Был выдан длинный список запретов, прописаны лекарства и домашний режим. Ему шел тогда шестьдесят четвертый год, но дело было не только в этом.
Мариам позвонила детям – Ханне и Джамалу. Рассказала, что случилось, и успокаивала их снова и снова, чтобы они не мчались домой. «Если не будет осложнений, завтра он вернется домой», – сказала она.
– Что значит «осложнений»? – спросила Ханна.
– Так сказал доктор: если не будет осложнений, – ответила Мариам.
Она переняла тон у больничного персонала – там старались соблюдать спокойствие, и, наверное, так было лучше для Аббаса, а если Ханна и Джамал сорвутся и приедут, для него это будет лишним волнением. Она сама работала в больнице и знала, что люди иногда устраивают ненужную суету вокруг больных родственников.
– Его лечат. Говорят, состояние стабильное. Нет, незачем сюда спешить. Он никуда не денется. Конечно, можете приехать и навестить его когда угодно, но мчаться незачем. Приезжайте, когда хотите. Сейчас всё спокойно. Его лечат. Нет, Джамал, ежедневных инъекций не требуется. Сейчас его колют, но это временно. Он будет принимать лекарства, соблюдать диету, и за какими-то вещами я должна постоянно следить. За какими? За трещинами и потертостями на ступнях, за сахаром в крови и прочим. Меня научат. Он поправится. Силы постепенно вернутся. Не волнуйся, всё будет хорошо. Да, да. Приезжайте как-нибудь, навестите его.
Болезнь отняла у Аббаса силы. Даже от небольшого усилия он дрожал, потел и жалобно хныкал. Не мог сесть без посторонней помощи. Вечно был голоден, но от еды его мутило. Слюна была горькой, изо рта пахло, как из стока. Глотал с трудом, давился едой. Пришла сестра из диабетического отделения, объясняла ему (и Мариам), как он должен следить за собой. Она расписала правила, надавала брошюрок и советов и, ворча, удалилась. Он еще больше обессилел от ее визита. Даже через несколько дней он все еще не мог самостоятельно пройти несколько шагов до уборной, и, уходя из дому, Мариам ставила ему на всякий случай пластиковое ведро. Однажды он им воспользовался и сидел на нем, как маленький, кряхтя и стеная, пока опорожнялось тело, в стыде за растраченную и лживую жизнь. Потом он не мог подмыться, как обычно. Он так и не привык пользоваться бумагой и чувствовал себя испачканным, взбираясь в постель, ощущал засохшее вещество в заду. Иногда он забывался сном или уносился в какие-то глубокие безмолвные места, уносился беспомощно в ненавистное. Даже в забытьи он сознавал, что слишком долго откладывал, как сознавал наяву все годы. Ему о стольком надо было рассказать, но он укрылся молчанием и теперь закаменел в нем. Иногда ему казалось, что он уже ушел, что до него не достать, он висит на тонкой веревке, катушка разматывается и сам он растворяется постепенно. Но он не умер, он просыпался и вспоминал иногда повторявшийся сон в бытность его моряком: во сне он висел на веревке, растворяясь в набегавшей воде.
Немного окрепнув, он сделался раздражительным, злился на свою слабость, а выражалось это в сердитых упреках жене. Слова его ранили Мариам, но он не мог сдержаться. Порой ему бывало невыносимо, когда она входила в комнату, болтала о чем-то, что-то искала в шкафу или в тумбочке, трогала его лоб ладонью, приподнимала его, чтобы сменить подушки, приносила ему из кухни радио. «Оставь меня в покое. Перестань суетиться». А иногда невыносимо было ее отсутствие, ее отлучки, и он плакал от жалости и отвращения к себе. «Я этого не вынесу. Больше не могу выносить». Он был грешным странником, захворавшим в чужой земле, после жизни такой напрасной, напраснее которой быть не может. Говорить не давала боль в груди, объясниться мешала усталость. Слова не складывались осмысленно, он видел это по недоумению на ее лице. Он не мог заставить себя говорить так, чтобы ей было понятно. Он хотел, чтобы его оставили одного, но, когда пытался сказать это ей, выплевывал только ругань и плакал от бессилия.
Но сил прибавлялось. Он мог сам спуститься по лестнице и при надобности подняться обратно, только медленнее. Мог уже глотать свободно и привыкал к новой диете – оказалось, не такой уж трудной, если не считать запрета на сахар и соль. Сказал ей, что сможет обходиться сам. А ей пора выйти на работу. Он не инвалид, просто немного ослаб. Если не торопиться, он справится самостоятельно.
Через три недели она вышла на работу, для него это было облегчением, хотя целый день не с кем было перемолвиться словом. Он пробовал читать, но не мог сосредоточиться, и руки уставали держать книгу. Но он уже немного окреп и, когда поправится, поговорит с Мариам обо всем, что скрывал от нее.
Мариам работала в больнице, но не делала ничего героического, жизни не спасала. Она работала в столовой для персонала и посетителей и поняла, что если еще задержится с выходом на работу, то потеряет место. Об этом ей сочувственно сказала по телефону заведующая столовой, когда она хотела отпроситься еще на две недели. Конечно, за свой счет – всего две недели, убедиться, что Аббас справится самостоятельно. Но заведующая сказала: нет, извини, рабочих рук не хватает. Мариам работала здесь давно, заведующая тоже, но времена были трудные, рабочих мест мало. Ни заведующей, ни ей деваться было некуда. Мариам с ее квалификацией не на что было рассчитывать. Она работала в больнице двадцать лет: сначала уборщицей, пока не появились дети, – тогда они решили, что посидит дома с ними; а потом, когда дети подросли, устроилась в столовую больницы. Она часто думала, что надо бы заняться чем-то другим, более интересной работой, чтобы больше уважать себя и, наверное, больше зарабатывать, но так ничего и не поискала. Когда заговаривала об этом с Аббасом, он кивал или мычал согласно, но никак ее не поддерживал. Она не представляла себе, какой может быть более интересная работа, наверное, и он не знал. Всю жизнь она занималась теперешней и знала многих в больнице. Работники приходили и уходили, но небольшая группа держалась с давних времен. Мариам не хотела потерять место, тем более когда Аббас в таком состоянии. Не могла она сказать заведующей: «Подавись этой жалкой работой, я терпеть ее не могу. Найду место в банке». Ничего такого она не могла сделать. И она привыкла к тому, как работа наполняла ее жизнь. Так она жила всю жизнь, всегда довольствуясь малым, всегда поступая так, и теперь было поздно выламываться, рисковать. Для этого у нее никогда не было сил.
В первые дни на работе она не могла отойти от потрясения из-за того, что случилось с Аббасом, – он почти никогда не болел, а теперь был слаб, потерян, без всякой причины плакал и всхлипывал. Особенно тяжело было думать об этом в его отсутствие. Когда он был рядом, она могла отвлечься домашними хлопотами, хотя временами мучительно было даже приближаться к нему. А в его отсутствие он являлся ей отрывочно, в тяжелых эпизодах, которые она не могла выгнать из памяти. На работе спрашивали о нем, она отвечала кратко, по возможности оптимистическими сводками. Сводки помогали ей свести потрясение к чему-то более обыденному, свести происходящее к обычным драмам. У кого не было отца, или сестры, или мужа, или соседа, борющегося с долгой болезнью или ожидающего трудную операцию? После своих сводок она выслушивала таких коллег, и вместе им удавалось сделать трагедии чем-то переносимым, они винили в беде врачей, судьбу, себя нескладных. Так было легче. Это были не такие друзья, каким захочешь открыть душу. Таких у нее и не было, кроме Аббаса. Она боялась, что если заговорит откровенно, то хлынет поток пустого сочувствия, а большего, она полагала, бессмысленно ожидать от сослуживцев. Да, вероятно, и от нее самой, если бы кто-то из них захотел излить душу. Достаточно человеческого отношения и глубоко не закапываться – достаточно.
Не хотелось думать, как он там сейчас. Не думать хотя бы несколько часов в день – но не удавалось. Нехорошо оставлять его одного на весь день, но врач говорила, что он поправляется и попробовать стоит. Лекарства действуют, он окрепнет. «Не хлопочите над ним всё время, – сказала она, – пусть понемногу привыкает к самостоятельности». И он сам сказал: «Перестань хлопотать». Она понимала, что он хочет побыть один дома, в тишине, помолчать. Но нехорошо, когда он сам не может справиться, проливает что-то, пачкается, целый день сидит и плачет в одиночестве. Ее обижало, что он грубо с ней разговаривает, чего не бывало прежде, – но надо привыкать. Он нездоров, и вообще, хлопотать она будет столько, сколько надо, – как же иначе?
Это их лечащий врач, доктор Мендес, сказала: «Не хлопочите над ним всё время, пусть привыкает к самостоятельности», – хотя сама была хлопотуньей, каких поискать. С Мариам она разговаривала всегда строго, с тех еще давних пор, когда Мариам впервые привела к ней детей. Ее инструкции следовало выполнять досконально, а в диагнозах часто сквозил упрек, как будто вина лежала на Мариам. Доктор Мендес была испанка и очень упрямая, на взгляд Мариам. Она была одних лет с Мариам, пользовала их уже много лет и, матерея с возрастом, походила теперь на женщину-борца. Может быть, Мариам была сама виновата, что допустила в обращении с собой грубый тон, но врач разговаривала с ней так, как будто она и за собой плохо следит. Когда у Аббаса определили диабет, она и его отчитала за беспечность. Пожилые считают ниже своего достоинства проверяться у врача, пока не произойдет с ними что-то страшное, и тогда они становятся для всех обузой. В его возрасте он должен был регулярно делать анализ крови – у него давно бы нашли диабет и занялись его сердцем. Теперь их детям придется делать анализ крови как минимум ежегодно. Это наследственная предрасположенность. Хорошо еще, что Аббас был так слаб: будь он покрепче, он не потерпел бы такого тона, даже в разговоре с врачом. Пока упрямая испанка отчитывала Аббаса, Мариам показалось, что на лице его мелькнула проказливая улыбка, – насмешливый комментарий он приберегал до той поры, когда будут силы, подумала она.
Она вспоминала его таким, каким он был много лет назад, когда они познакомились в Эксетере. С тех пор как он заболел, вспоминала часто – мужчину, с которым познакомилась семнадцатилетней, – не сравнивая, не огорчаясь, что он теперь не такой, а с удовольствием. Образ возникал вдруг, и она улыбалась. И, может быть, скорбела о том покое, который исчез навсегда.
Впервые она увидела его в Бутсе, в Эксетере, так давно, будто в воображаемой жизни. Они стояли в очереди, и он улыбнулся. Люди не всегда улыбались, встретив ее взгляд, – так ей, по крайней мере, казалось. Чаще всего она отворачивалась до того, как могла прочесть что-то в их глазах; может быть, они и улыбались вдогонку, но в те времена она боялась наткнуться на презрительный, насмешливый взгляд и предпочитала не видеть. Он был поджарый, сильный, темнокожий, в свитере с высоким воротом и джинсовой куртке. В очереди он стоял впереди нее, поглядывал из стороны в сторону, и она могла хорошенько его разглядеть. Потом он оглянулся назад, увидел ее, посмотрел еще раз и улыбнулся. Улыбка эта была ей приятна – как будто он увидел знакомую и оба они знали что-то, чего не знали остальные. Она не удивилась, когда выяснилось, что он моряк. По нему было видно, что он много где побывал, занимался разным и знал, что такое свобода. Она родилась в Эксетере, больше нигде не бывала, ничем не занималась. В то время она жила с Феруз и Виджеем, и жилось ей уже трудновато. Вспоминая Феруз и Виджея, она невольно морщилась даже спустя столько лет и расправляла плечи, мягко оттесняя воспоминания.
Еще ничего не зная об Аббасе, а только глядя на него, она чувствовала, что у него за плечами всякое. Такое у него было выражение глаз, недобрый взгляд, говоривший: «Я это смирно не приму, всё равно, что вы там задумали». Надо было признать, что взгляд был недобрый. Узнав его лучше, она увидела, что выражение это у него не всегда, а только когда ему не нравится то, что он видит или слышит, когда заподозрил, что к нему отнеслись неуважительно. Этого он всю жизнь не выносил, иногда до глупости. Случалось, взгляд его был горящим, огонь в глазах, лицо сердитое и решительное, словно в мыслях он пребывал где-то не здесь. Но, за исключением таких вспышек, глаза у него были большие и спокойные, как у человека, который любит видеть, и при первой встрече она подумала, что этот человек любит делать людям приятное.
Да, таким она его навсегда запомнит, пока жива память, – худощавым, беспокойным мужчиной, который повстречался ей в год окончания школы. Тогда она работала в кафе и такой же работой занимается, вот, всю жизнь. Она думала тогда, что, если заработает денег, то съедет от Феруз и Виджея и поселится с какой-нибудь из подруг по работе. Но денег было мало, работа тупая, хотя товарок она любила. Это важно было в ту пору, хотя жизнь не баловала – работать среди людей, с которыми ладишь, готовых смеяться по любому поводу, как будто вся их жизнь – дурацкая шутка. Позже она нашла лучше оплачиваемую работу на фабрике – тогда-то она и увидела Аббаса снова. Она по-прежнему захаживала в свое кафе – выпить чаю, повидать бывших подруг, – и всегда её там угощали бесплатным пирожным. Там и увидела его второй раз. Он взглянул на неё и узнал. Постоял в нерешительности, она ему улыбнулась, и он подошел. Еще на миг задержался с подносом и сел.
– Бутс, – сказал он с улыбкой.
– Приятно познакомиться, мистер Бутс, – сказала она, и оба рассмеялись.
Они немного поболтали, потом он попрощался и сказал: «Надеюсь, еще увидимся». Он назвал свое имя и сказал, что работает на судах. Она тоже назвалась и сказала, что работает на фабрике. Даже этот обмен сведениями почему-то показался забавным. Она знала, непонятно почему, что они снова встретятся. Ей не запомнилось, что говорил он и что говорила сама, сохранилось только ощущение от встречи, трудно определимое – волнение, предчувствие. Запомнилось, как он смотрел на нее, удовольствие в его глазах и чувство, которое вызывал у нее этот взгляд.
А третий раз они встретились – в счастливый третий раз, говорил он, потому что счастливым всегда бывает третий, – на фабрике. Было такой неожиданностью увидеть его там, и по его лукавой улыбке она поняла, что это не было случайным совпадением. Он сказал, что устроился здесь на работу, потому что хотел отдохнуть от моря. Он приехал в Эксетер на несколько дней к другу, и ему так понравилось, что решил побыть тут еще. А пока что устроился на фабрику – человек должен работать или будет обузой для других. Он подолгу торчал у ее рабочего места; в конце концов бригадир прогнал его, но он все равно приходил поболтать. Бригадир, тощий крысеныш, расхаживал с воинственным видом, ища, к чему бы придраться, и всех донимал. Аббас немедленно стал для него раздражителем и лишь через несколько дней научился избегать его внимания. Работа его была – снабжать необходимым несколько линий сборки, поэтому, когда ничего не требовалось, он мог свободно разгуливать, очаровывая работниц и стараясь не попасться на глаза бригадиру. Он проводил ее до дома, продолжая болтать, смешил ее и бессовестно ей льстил. Она понимала, что за ней ухаживают, и потом лежала в темноте, взволнованная происходящим. Так они ходили всю неделю, болтая, в третий день взявшись за руки, поцеловавшись на прощание в четвертый вечер, а в субботу легли в постель. Для нее это было в первый раз. Она сказала ему об этом заранее, на всякий случай. Она не знала толком, что может произойти, но слышала, что там что-то может прорваться, и пойдет кровь, пусть он знает. Он спросил, уверена ли она, что хочет, и она сказала: «Да». Он был такой красивый…