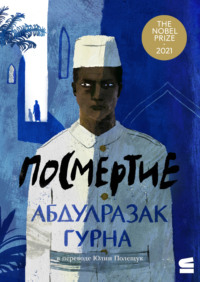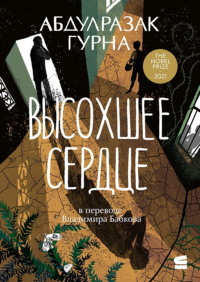Полная версия
Последний дар
В другой раз папе пришлось играть в прятки с голодной акулой среди коралловых рифов Сулавеси. «Тамошние акулы знамениты своей величиной и прожорливостью, – рассказывал он. – Они любят свою работу – рыскать по океану и набрасываться на всё, что попадется. Если наблюдать за ними внимательно, держась на расстоянии, конечно, увидишь, как они с улыбкой раскрывают громадную пасть и заглатывают проплывающую мимо безобидную рыбку-попугая. Но они не умные – вечно натыкаются на разные предметы, и если держаться подальше от этих громадных зубов, то можешь уцелеть». Эта акула в Сулавеси часами гонялась за ним, но в конце концов папа ее обманул, заплыв в узкий коралловый коридор; акула же застряла в нем, и папа спасся.
А однажды он неделю просидел на дереве, когда стая гиен с лаем караулила его внизу и, подняв зады, пускала в его сторону струи ядовитого кала. Вы не знали, что дерьмо у гиен жгучее? Это их страшное оружие. Гиены стреляют калом в глаза своей жертве и потом набрасываются. У папы не было выбора – только взобраться повыше на дерево и ждать, когда они опорожнят свой боезапас. Он даже задремать боялся, чтобы не сползти по стволу: иначе страшные гиеньи челюсти раскусили бы его кости в два счета.
А любимым у них был рассказ о говорящем верблюде. Папа был моряком до того, как познакомился с мамой, побывал везде и в Индии познакомился с говорящим верблюдом. В Индии полно чудес: небывалых волшебных зверей; а еще Ладху, халва-бадам, драгоценные камни, которые вылупляются из птичьих яиц, мраморные дворцы и ледяные реки. Говорящий верблюд рассказывал папе разные истории, и они так подружились, что папа пригласил его в гости. Так что, может, они с ним еще познакомятся, хотя Индия далеко и говорящему верблюду долго идти до Англии. А пока что папа рассказал детям кое-что из историй, которые ему рассказал говорящий верблюд. Историй было без конца и края – столько их знал верблюд. В них не было ни гиен, ни акул, а только верблюжата, обезьяны, лебеди и разные другие маленькие дружелюбные создания.
Иногда он рассказывал им настоящие истории, которые знал с детства. Но только по особым случаям и когда они были моложе – в дни рождения и на Рождество. С днями рождения вначале было сложно – папа считал, что в них есть самодовольство, иностранцы портят ими своих детей. Что в тебе такого важного, чтобы праздновать день твоего рождения? Свой день рождения он не празднует. Мама свой день рождения не празднует. Никто не празднует. Кроме европейских иностранцев, он не знает никого, кто празднует день рождения. Чем они важнее мамы и папы и всех остальных в мире неевропейцев? Никаких дней рождения. Но в конце концов он вынужден был уступить, и на дни рождения мама пекла торт, ставила в него свечи, готовила особые угощения, и однажды, вернувшись с работы, отец увидел увешанную воздушными шарами кухню и маленькую вечеринку на полном ходу. Так что оставалось только улыбаться, признав поражение, и наблюдать торжественную радость детей. «Yallah, мы становимся цивилизованными», – сказал он. С Рождеством было так же трудно поначалу: расточительный праздник языческого пьянства – так он его называл. Но однажды втайне от всех он купил маленькую серебряную елку и гирлянду лампочек и смеялся вместе с детьми, когда они с радостным удивлением прыгали вокруг. Когда они утихомирились, все сели на пол кружком – мама, Ханна, Джамал, – и он начал. Hapo zamani za kale. В старые добрые времена. Для разных персонажей у него были разные голоса. Когда смеялся жестокий человек, голос у папы становился хриплым и злым, он крутил воображаемый ус и расправлял свои худые плечи, как драчун. Когда красивая молодая мать молила о помощи, он делался жалким, заламывал руки и моргал. Когда хороший человек наводил в мире порядок, он становился властным, решительно поднимал подбородок и сверкал глазами. Это было примитивное актерство, но дети были в восторге, и, когда он закончил, они аплодировали и осыпа́ли его поцелуями. Он тоже был доволен, их папа: улыбался, похохатывал и умолял маму спасти его от детей.
Джамал улыбнулся, вспомнив это представление, и наклонился, чтобы тронуть отца за руку. А спектакли эти были особенно забавны оттого, что папа не был веселым или шумным человеком. В отличие от мамы, он не участвовал в их веселых играх и не любил, когда они шумели. Возможно, потому, что был намного старше мамы. Мама соглашалась вести себя по-детски, но папа снизойти до этого не мог. Когда наступало время телевизора, он уходил наверх; но надо сказать, что прогоняли его детские передачи и старые мюзиклы по выходным. Он смотрел новости. Часто он уставал после работы, целый день его не было дома, он успевал отвыкнуть от их возни, криков, беззлобных детских препирательств. Но сам был тихим и, наверное, с годами делался еще тише. Когда Джамал подрос, ему казалось порой, что молчанье отца означает, что он его огорчил, – чем, непонятно. Каким утомительным бывает потомство: не можешь посидеть тихо – тут же начинают думать, что чем-то тебя огорчили!
В общем, папа был неразговорчив. Никогда не подходил к телефону, почти никогда. Когда был один дома, телефон мог звонить и звонить, пока звонивший не сдавался. Здесь никого нет, уважаемый. Мама придумала способ, как подозвать его к телефону в случае надобности. Два звонка и отбой. Еще два звонка и отбой. Третий раз звонить, пока он не подойдет. На третий он всегда подходил. Когда все были дома и как-то развлекались, он мог сидеть с ними, но участия обычно не принимал. Не потому, что был недоволен, не ворчал – почти никогда, – просто сидел на своем обычном месте, иногда улыбался, иногда произносил несколько слов, но ворчал очень редко. Только когда на него вдруг накатывало – тогда его было не остановить, пока не выговорится. Остановить его или сменить тему было невозможно – как бывает с политиками, когда им задают вопрос, на который они не хотят отвечать. А обычно, если не очень шумели, сидел с газетой, с кроссвордом или книгой и говорил мало. Да, мало говорил. Он любил книги о море, приключения, романы, книги о морских обитателях, о странствиях, путешествиях, о человеческой стойкости. Они обожали, когда он пересказывал их и разыгрывал. Это было тем радостнее, что они помнили, каков он в других настроениях.
Когда они были маленькие и до той поры, когда Джамалу исполнилось десять или одиннадцать, они часто выезжали на природу. Папа любил эти вылазки. Он находил в местной газете объявления о чем-то занимательном и говорил: «Дети, давайте поедем, посмотрим, что там будет в воскресенье». Воскресным утром они прихорашивались, одевались, как будто предстоял далекий путь, брали одеяло для пикника, полотенце на случай, если что прольется, и дождевики. Далеко не ездили, но накануне вечером папа изучал карту дорог, как будто они собирались в экспедицию, а он был руководителем. Они посещали ботанические сады, заказники, древние церкви, ярмарочные представления, разъездные выставки. Мама никогда не противилась его выбору. Экскурсиями командовал он. Она только готовила еду: сандвичи с помидорами – папа их обожал, а остальные терпеть не могли, – сандвичи с сыром, тефтели, йогурты, чипсы, лимонад и термос сладкого чая с молоком специально для папы. Набор всегда был один и тот же, и Джамал знал, что до конца жизни, когда подадут тефтели, он будет вспоминать эти вылазки. Собравшись, они садились в машину и выезжали. Иногда через несколько минут им приходилось возвращаться – папа спрашивал: «Ты заперла заднюю дверь? Отопление мы выключили? Мой бумажник у тебя?» За рулем всегда была мама, а папа, как турист, поглядывал вокруг и привлекал внимание детей к самым обычным видам: к овцам на лугу, к ветряной мельнице, к веренице столбов в поле. Если даже цель поездки казалась странной, Ханна и Джамал строили рожи друг другу, но всё равно радовались. В поездке всегда бывало угощение. Иногда мама запевала веселые песни, и папа старался терпеть шум.
Ханна иногда говорила Джамалу, что они странная семья, чудна́я. Мама была подкидышем, не знала настоящих родителей, а папа о своих никогда не говорил. Джамалу их семья не казалась необычной или странной, но с Ханной, когда она это говорила, соглашался. В ее рассказах так получалось. Он не помнил, когда впервые услышал рассказ о детстве матери и от кого услышал – от нее или от Ханны. В детстве всё ему рассказывала Ханна. Но казалось, он всю жизнь знал эту историю, только с годами смысл ее как будто расширялся, и всё более странным представлялось молчание папы. Он не помнил, было ли им велено не рассказывать чужим о детстве матери, но он не рассказывал. Никогда и никому. С годами мама, случалось, заговаривала об этом, иногда он узнавал какую-то новую подробность. Эти ее рассказы были не такие, как те, что родители перебирали вместе, пересказывали друг другу, смеясь над памятными эпизодами, которые изначально вовсе не были смешными, истории об их любви, ухаживании, о стойкости и нелепостях, иногда на грани катастрофы. История жизни матери складывалась из отрывочков – посреди рассказа другой истории или выговора детям вспоминалось какое-то чувство или впечатление, когда мысль начинала блуждать. А Джамал слушал по-особенному, не потому, что этому научился или заставлял себя, – это пришло само. Он слушал молча. Не перебивал, не спрашивал о подробностях. Теперь он задавался вопросом: так ли слушают все дети, или это он был таким послушным и одиноким мальчиком, или мамины рассказы были такими занятными, что не требовали вопросов? Мама кратко излагала ситуацию, он рисовал ее в своем воображении и помещал этот образ среди уже имевшихся.
Поначалу он не знал, верит ли сам в историю мамы-найденыша. Возможно, не верил. В детстве всё казалось непохожим на тот мир, который уже существовал где-то в других местах его сознания, и он не понимал, как не верить чему-то. Но в какой-то момент он, должно быть, понял, что история подлинная, и уцеплялся за каждую новую подробность в рассказах матери. Когда он стал подростком и с ним уже можно было говорить откровеннее, мать сменила манеру повествования. Джамал побаивался это нарушить, боялся, что она решит говорить осторожнее о каких-то вещах. Ханна была не такой послушной, решительнее добивалась того, что хотела узнать от мамы. Просила, чтобы происшествия излагались яснее, чтобы мама повторила имена, хотела услышать, что произошло с героями рассказа. «Далеко ли отсюда Эксетер? Где теперь живут твои мама и папа? Как получил свое название Маврикий?» Вопросы вынуждали маму отклоняться, объяснять, уходить от доверительного тона, каким говорят о самых чувствительных подробностях. Когда Джамал оставался с ней наедине, он не прерывал ее, наслаждаясь неторопливым рассказом, придававшим событию глубину, с перебивками, когда всплывала вдруг деталь, выпавшая было из памяти. А когда замечал в рассказе противоречия, помалкивал. Он не понимал еще, что истории не живут в неподвижности, что они меняются с каждым новым рассказом, исподволь перестраиваются с каждым новым дополнением, и то, что кажется противоречием, на самом деле – неизбежный пересмотр произошедшего. Умом не понимал, но обладал даром слушания, вполне заменявшим понимание.
Однажды, когда он еще жил дома, мама рассказывала о тяжелой зиме в Эксетере – всё тогда померзло. Разговорилась, стала вспоминать, и чем дальше, тем грустнее: и что не бывала там с 1974 года, когда они уехали, и о потерянных подругах, и о Феруз. Папа тоже был в комнате; он оторвался от кроссворда, почувствовал настроение Мариам и прогремел: «Приятно познакомиться, мистер Бутс», – такая была у них шутка о начале их знакомства.
Мама улыбнулась.
– Как бы я хотела разыскать Феруз, – сказала она, глядя на папу.
Джамал знал, что мать пыталась связаться с приемными родителями, но найти их не удалось. В семье все знали об этом: она часто говорила, что после рождения Ханны больше всего на свете хотела примирения с ними и как она жалеет, что потеряла Феруз. При папе она об этом не говорила, во всяком случае, насколько знал Джамал. А сейчас папа посмотрел на нее неодобрительно.
– Что ты беспокоишься об этих людях? – резко сказал он. И, видимо, сам услышал эту резкость, продолжал спокойно и рассудительно: – Они не так уж хорошо с тобой обращались. По крайней мере, ты пыталась их разыскать, а они этим не озаботились, уверяю тебя. Ты пыталась их отыскать, не смогла – что еще остается? Забудь о них.
Момент был напряженный; Джамал увидел, как мать посмотрела отцу в глаза и он опустил взгляд на кроссворд. И Джамал понял, что в ее взгляде был вызов: Я не хочу их забывать. Я не хочу быть, как ты. Что такого плохого могло случиться, если она решила сбежать, – но не настолько плохого, если мечтала о воссоединении? Может быть, ничего особенного. Может, она была слишком порывистой – девушка семнадцати лет, встретившая любовь всей жизни, – а потом слишком поздно к ней пришли сожаления. В такие минуты родители казались ему странной семьей – когда подступали к каким-то темам, а потом отступали, – какие-то сюжеты, истории возникали неожиданно и пропадали под долгими взглядами, в затянувшемся молчании.
Почему папа молчал о своей прошлой жизни? Сидя у больничной кровати, Джамал погладил папу по бедру. «Что ты делал? Ты меня слышишь? Не так уж ты плох – иначе накололи бы в тебе дырок, навставляли трубок и пристегнули бы к машине», – сказал он вслух.
Аббас вдруг открыл глаза, посмотрел невидящим взглядом и опять закрыл. Джамала поразил этот короткий, налитый кровью взгляд – словно заговорил покойник, – и он тут же устыдился своей мысли. «Не так уж ты плох, гляди, разлегся, как паша в гамаке», – тихо сказал он. Но тут заметил, что дыхание отца слегка участилось, стало неровным. Позвать кого-нибудь? Слышно было, как за занавеской, отгораживавшей кровать, ходят люди. Но папа коротко вздохнул, и дыхание постепенно успокоилось. Непривычно было сидеть рядом со спящим отцом: таким беззащитным он никогда его не видел. Отец всегда спал чутко; случись застать его дремлющим – он встрепенется, не успеешь даже подойти. Может быть, чуткие нервы его еще работали, и голос Джамала проник сквозь пелену успокоительных и вынудил открыть глаза.
Джамал снова погладил его по бедру. Больше не пугай меня так. Отдыхай. Почему ты никогда не рассказываешь о своих родителях? Он не рассказывал – разве набросает коротко портрет скареды-отца и затюканной матери. Иногда, даже часто он рассказывал о том, как был моряком, в каких побывал странах, какими паршивыми работами занимался, прежде чем остановился на этой, и уже до конца жизни – механика на фабрике электроники. Но никогда – о своих родных и даже о месте, где вырос. Маленькие Ханна и Джамал по-детски простодушно допытывались, где живут их дедушка с бабушкой, какие они, и задавали другие подобные вопросы, но он эти вопросы обычно отметал, иногда с улыбкой, иногда без нее. «Вам про это незачем знать», – говорил он. Иногда он рассказывал им о каких-то мелочах, казавшихся Джамалу интересными, – но не очень подробно, не очень конкретно. Рассказывал, будто забывшись на минуту, не контролируя себя, выставлял причудливую деталь, и она уплывала, растворялась в слепящем свете.
Он помнил, как однажды в Рождество отец рассказал им про розовую воду. «Так мы поздравляли друг друга с праздником. В первый день Ида люди приходят друг к другу с поздравлениями, выпивают по чашке кофе, а если достаточно состоятельные, то и с кусочком халвы. В некоторых домах хозяин брызгал на гостей розовой водой из серебряного сосуда, наливая им на руки, иногда смачивал им волосы». Когда Ханна спрашивала подробности – ей хотелось побольше узнать об этих людях и чьи дома они посещали (Джамалу тоже было интересно узнать, но он робел расспрашивать), – отец объяснял, что розовую воду делают из лепестков и употребляют в разных блюдах и в религиозных церемониях по всему миру, от Китая до Аргентины. Он рассказывал им про Ид и его географию: как его празднуют в одной стране и как в другой, в каком месяце лунного года его празднуют и что такое лунный год. Когда они спрашивали о его родине, отвечал, что он обезьяна из Африки.
Они довольно рано поняли, что некоторые вопросы ему не стоит задавать. Джамалу больно было видеть раздражение на его лице, когда они приставали с расспросами. Чаще – Ханна, она острее воспринимала недосказанность. Она стремилась уяснить детали, и отцовские умолчания раздражали ее настолько, что иной раз она даже выходила из комнаты.
– Нет, не уклончивость, а увертки, Красавец, – объясняла она впоследствии, когда они стали достаточно взрослыми, чтобы обсуждать это с огорчением, а старшекурсница Ханна достаточно овладела языком, чтобы анализировать, по ее выражению, дисфункцию в их семье. Когда-то он спросил отца, что означает имя Джамал, отец сказал, что оно значит «Красивый», и с тех пор Ханна использовала перевод как ироническое прозвище. Себя вне семьи она предпочитала называть Анной.
– Они себя потеряли, – сказала она. – Ба сознательно себя потерял, и уже давно, а Ма была потерянной с самого начала – найденышем. Я хочу услышать от них историю, у которой есть начало, – правдоподобную и ясную, а не такую, которая спотыкается на недомолвках и умолчаниях. Почему это так трудно? Хочу, чтобы я могла сказать: вот кто я такая. Знаю, этого хочет каждый, кто дал себе труд об этом подумать, – а разгадывать тайны души и природы бытия мне не требуется. Мне нужны простые скучные подробности. А вместо них нас потчуют обрывками таинственных сюжетов, и ни расспрашивать о них нельзя, ни обсуждать их. Терпеть не могу. Иногда мне кажется, что живу я, прячась от стыда. И все мы так.
Джамалу было знакомо это чувство. Оно просыпалось у него вдруг, когда он тоже чувствовал, что должен лгать и лицемерить. Это чувство – что он должен чего-то стыдиться – сопровождало его почти всю жизнь, даже когда он не отдавал себе в нем отчета, – и только со временем он начал понимать некоторые его причины. От этого обострялось ощущение своей особости, чуждости, с которым он рос. Ощущение это возникало в разных случаях, не только в ответ на чью-то враждебность, недоброжелательство и подначки в школе. Он видел это в высокомерных сдержанных улыбках матерей учеников, в том, как люди старались не показать, что замечают в нем что-то необычное, в простодушных, а иногда настойчивых и жестоких расспросах детей о его родине и ее обычаях. Лишь с годами он научился говорить: здесь моя родина, – и научила его так отвечать Ханна.
Даже если старались, они не могли забыть, что он – другой, и сам он не мог, хотя делал вид, что не помнит об этом. Да и как иначе? После двух и трех веков повествований о том, какие они несхожие, могло ли быть иначе? Рано или поздно несхожесть напомнит о себе взглядом, словом. Обликом человека, переходящего улицу. Учитель, рассказывая о бедности в мире, невольно бросит взгляд в его сторону. Нищета обитает в таких краях, где живут подобные ему, а мы, избавившиеся от нее, должны научиться не презирать тех, кто еще не обрел средств спасения. Мы должны всеми силами им помогать. Так он понимал огорченный взгляд учителя: Джамал (и Ханна, и другие, похожие на них) – из этих несчастных, но мы не должны презирать его и говорить с ним жестоко.
Когда какой-нибудь темнокожий старик с растрепанными волосами, в дрянном, криво застегнутом пальто, шаркая, брел по тротуару, они хихикали – дети, с которыми он рос, – и поглядывали на него смущенно. Он делал вид, что не стесняется, что ничем не отличается от этих хихикающих.
– Мне бывает противно, что меня растили здесь, – говорила Ханна. – Что не нашли другого места, где нам с тобой родиться. Не потому, что в других местах нет жестокости и лжи, а просто чтобы избежать этого унизительного притворства. Где не надо изображать, что мы ничем не отличаемся от людей, которые черт знает что мнят о себе. Но думаю, что у родителей не было выбора в этом вопросе, а только видимость выбора. Они могли не рожать меня, а уж когда родили, от них больше ничто не зависело.
Ханна бушевала так из-за их скрытной, притворной, придавленной жизни, когда они уже уехали из дому. Одно время она была одержима этим, но потом сумела как-то с собой сладить. Помогли студенческая жизнь, новые друзья и романы, успехи в учебе. Она входила в большой мир, и огорчения из-за того, что она Ханна Аббас, и выросла в скромном домике в Норидже, и родители справляются с жизнью из последних сил, притупились. Теперь она была окончательно Анной и почти не заговаривала, как прежде, о своем чужеродстве. Наоборот, оно стало украшением ее британства. Однажды, дразня ее, Джамал сказал, что и ему, наверное, стоит сменить имя на Джимми и тогда он будет не таким нервным. Он почувствовал, что обидел ее, дав понять, что она изменила себе.
– Ненавижу имя Ханна, – сказала она. – Не знаю, откуда они его взяли. И вообще, это ты стал звать меня Анной.
– Знаю, знаю, – сказал он, пытаясь умиротворить ее. – Я был маленький и не мог как следует выговорить имя. Это я так, подразнил просто.
Джамал еще не достиг ее стадии, но благоразумие, вероятно, вело к тому. Он не мог заставить себя произнести «родина», когда говорил об Англии, или подумать о «приезжих» без чувства солидарности.
Он думал, что немногие на свете так мало знают о своих родителях, как он. Ему представлялось, что другие люди знают, кто они такие, знают, кто были их деды, где жили и чем занимались. У них там дядья в Ирландии, двоюродные в Австралии, зятья в Канаде и какой-нибудь непутевый родственник, порвавший со всеми. У них обязательства, семейные сходки, сложные отношения. Такой, насколько он понимал, должна быть нормальная семейная жизнь, а они семья бродяг, скитальцы без связей и обязанностей. Когда он стал работать над диссертацией о мигрантах в Европе, мнения его изменились, он узнал, насколько ненадежна, насколько скудна здесь жизнь этих чужаков, как им приходится крутиться и как эта жизнь бывает кровава. Он научился терпеть в ожидании того дня, когда отец расскажет наконец свою историю. Он смотрел сейчас на отца, дышавшего мерно под снотворным, едва избежавшего смерти, и думал, что, может быть, и до рассказа этого не так далеко. «Если перестанешь так упорно сопротивляться, жизнь может быть вполне терпимой», – шептал он отцу, но не знал, верит ли в это сам. Почему отец не сделал в жизни больше? Почему не захотел большего? Но так ли мало он сделал, так ли уж мало от нее хотел? Ведь не так уж это мало – провести столько лет в терпеливом молчании, зная, что однажды жизнь обрушится.
– Что ты сделал? – шептал Джамал отцу. – Убил кого-то? Пытал? Губил души?
Вернулась Мариам, отвезя Ханну на вокзал, и Джамал уступил ей свой стул. Она тронула папу за руку; Джамал подумал, что отец опять откроет глаза, но этого не произошло.
– Пока тебя не было, отец открыл глаза, – сказал он.
– Что? Он разговаривал?
– Нет. Только широко открыл глаза и опять закрыл. Не думаю, что просыпался. Нет, как-то судорожно.
Мариам отправилась сказать об этом старшей сестре. Та пришла, взглянула и заверила их, что он спит и всё благополучно. «Может быть, пойдете отдохнуть, а завтра вернетесь? Состояние у него такое, что завтра доктор, возможно, позволит его разбудить».
По дороге домой Мариам спросила Джамала, надолго ли он намерен остаться, и он сказал: дня на три-четыре. Смотря как пойдут дела. Через несколько дней он переезжает в однокомнатную квартирку. «Квартирку» он произнес насмешливо. Она наверху, спальня, за перегородкой душ и туалет, но всё лучше, чем комнатка с еще двумя студентами в доме, которых он успел уже очень хорошо узнать. Меньше отвлечений, больше работы, и никто не действует на нервы.
Когда вернулись домой, Мариам пошла наверх и принесла фотографию Аббаса в рамке. Снимок сделал друг Аббаса, с которым они вместе жили. Аббас был в светлом свитере и короткой джинсовой куртке. Мариам поставила фото на полку над газовым камином и повернулась к Джамалу.
– Какой красивый! Ты очень на него похож. Только без мохнатой бороды.
Он подумал, что она хотела сказать «лохматой», но поправлять не стал. Его огорчало, что она путает некоторые слова, как будто английский выучила не очень хорошо, хотя прожила в Англии всю жизнь и другого языка не знала.
– Где его сняли? – спросил он. Он сам знал где, но чувствовал, что матери хочется поговорить о былом.
Сначала они поехали в Бирмингем. Аббас сказал, что там легче найти работу, а ей было всё равно. Если бы он сказал «в Ньюкасл», она бы тоже согласилась, а дальше ее представления не шли – дальше только за морем. А Шотландия – почему-то такое место, откуда уезжают, а туда не едут. Так она думала по невежеству. Это он побродил по миру и знал, каково там, знал, где безопасно. Бирмингем был интересен ей, как и любое другое место, далекое от Эксетера, и потому еще, что Аббас был рядом. Иногда ей становилось страшно оттого, на что она решилась, а другой раз сама не могла понять, почему не решалась так долго. Но всё-таки, наверное, понимала: не сумела бы она сбежать самостоятельно. Боялась бы того, что могла преподнести ей жизнь, когда нет ни денег, ни отваги, ни особой красоты. Ничего. У Аббаса было немного денег – не совсем нищие, они могли найти комнату и искать работу. Не так уж плохо. Работу найти было нелегко: инфляция, забастовки, профсоюзные войны. Она нашла работу уборщицы в больнице – такая работа никого не привлекала, – а он сперва пошел на стройку, а потом получил работу на фабрике. Жизнь в большом городе и сам характер работы смущали, но особенно сожалеть не приходилось, да и поздно было думать о том, что ей во всем этом не нравится.