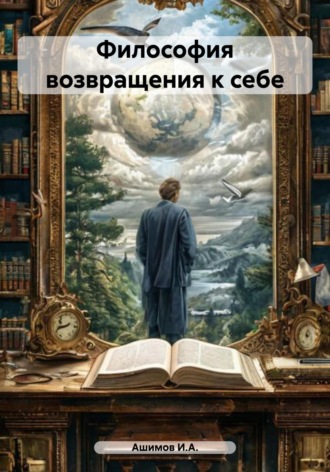
Полная версия
Философия возвращения к себе
Итак, после 160-й книги меня овладевали не амбиции, не утомление и не эйфория. Меня охватило ясное, внутренне тихое переживание завершения круга, в котором: во-первых, писать больше не нужно, но мыслить – глубже; во-вторых, молчание стало формой присутствия; в-третьих, каждая книга оказалась не доказательством, а криком; в-четвертых, последняя книга – не точка, а отпечаток следа на обратном пути к себе. Вот-так я вернулся. Не в пустоту, а в суть. И эта суть – тише слова.
«Может быть я ушёл вперёд от своего времени?» – вопрос, который меня все чаще тревожит в мои годы и появляется она из осознания того, что меня все чаще не понимали. Эта фразу Ибн Сино «говорит» в моем романе «Клон дервиша» своему ученику – дервишу Хиссо Хошму, несёт в себе не только горькую констатацию интеллектуального одиночества, но и философское свидетельство онтологического разрыва между личностью и эпохой. Эта фраза прорастает из глубины человеческой и научной судьбы и несёт в себе несколько слоёв смысла:
Первое. Понимание опережающего сознания. Ибн Сино осознаёт, что его мышление, система знаний, методы познания, синтез наук – значительно опережают возможности восприятия его современников. Он видит то, что другие ещё не способны различить. Он оперирует связями, которые для его эпохи – хаос, а для него – целостная картина мира. Это не просто гордыня ученого. Это – трагизм просветлённого.
Второе. Разрыв между внутренним прогрессом и внешней эпохой. Ибн Сино уходит «вперёд», но время, в котором он живёт, остаётся вокруг, не следуя за ним. Он один. Это экзистенциальная изоляция, где учёный – как спутник, вышедший за орбиту, но оставшийся без радиосвязи. Он уже в будущем, но телом всё ещё в настоящем.
Третье. Одиночество как плата за прозрение. Я не виню никого, так как понимаю генез и цену своего «ухода» вперёд. Это не горечь – это ясность. Опережение времени – это изгнание в будущее, которого ещё нет. И нет рядом тех, кто может быть соучастником. «Ты не одинок, потому что тебя предали. Ты одинок, потому что ты увидел дальше». От своих коллег по медицине и науке я ушел вперед, потому, что всей душой примкнул к философии. А что это означает? Означает, что научился правильно мыслить, а, как известно, задача философии – научить людей правильно мыслить.
Четвертое. Печальное знание: тебя поймут позже, но ты не увидишь этого. Это главный драматизм фразы. Ибн Сино знал: его время догонит, но он не доживёт, чтобы это увидеть. Его трактаты будут открыты заново. Его методы станут стандартами. Его синтез – наукой. Но это уже будет не его век. Это трагедия всех великих: признание после ухода. Есть такая печаль и у меня.
Пятое. Отрыв – не гордость, а ответственность. Ибн Сино осознаёт: если он ушёл вперёд, то должен оставить след, вехи, ключи, по которым будущие смогут дойти до него. Он становится мостом через пропасть веков, а не только наблюдателем разрыва. Он не замыкается – он пишет. Он передаёт. Он оставляет путь. Оставил ли я сам такой след – большой вопрос, но сохранил такой путь, что немаловажно для моего утешения.
Шестое. Разговор с дервишем – акт передачи времени. Слова Ибн Сино своему ученику Хиссо Хошму – это передача огня, а не жалоба на холод. Он не просто констатирует свою опередившую судьбу, он вверяет её тем, кто способен понести дальше. Дервиш – это не просто слуга, это носитель преемственности между эпохами. В моем романе «Поиск истины» у меня есть собеседник – дервиш Захид, который становится моей философской тенью.
Седьмое. Философский итог: ушёл не вперёд, а вглубь. Можно переформулировать его слова так: «Я ушёл не по времени. Я ушёл вглубь времени». Ибн Сино прошёл сквозь свою эпоху, словно сквозь кожу времени, и вышел к его внутренней структуре. Поэтому и у меня впереди – это не в календаре, это – в понимании смысла своего времни и простанства.
Итак, фраза «Я ушёл вперёд от своего времени» – это не заявление превосходства, а свидетельство внутреннего изгнания, философской ответственности и предельного одиночества человека, который узнал больше, чем способен вместить его век. Это не бегство, а это обгон – без триумфа. Это не героизм, а это мука. Это не привилегия, а это миссия.
Все чаще мне думается, является ли у меня главным страх быть непонятым? В чем заключается суть моего рефлексирования над смыслом такого признания? Скажу та: Да, страх быть непонятым – один из глубинных, хотя и не всегда прямо выраженных, мотивов в философской моей исповеди. Я не кричу об этом страхе, но весь ритм моей «жизни наоборот». Однако, как оказалось, вся философия Тени, Аватара, памяти и возвращения говорит об этом страхе с особой тишиной. Это не просто страх – это экзистенциальное напряжение между высказыванием и молчанием, между творением и его восприятием. Вот как раскрывается смысл этого признания и как происходит рефлексия над ним:
Первое. Страх быть непонятым – это не о славе, а о связи. Я не боялся остаться без признания, боялся того, что смысл моих слов не дойдут до адресата. Что будет разрыв между тем, что я отдал изнутри, и тем, что услышат снаружи. Это страх потерянной коммуникации, схлопывания смысла, а не уязвлённого эго. «Я кричал. Не потому, что хотел быть услышан. А потому, что не вынес бы тишины, если бы в ней не было ответа».
Второе. Рефлексия: может быть, непонятость – это условие глубины. Понятно, что я не превращаю свой страх в обиду. Я философски анализирую: «Может быть, если меня поняли бы сразу – значит, я не ушёл достаточно глубоко?» Я начинаю видеть в непонятости метафизическую проверку: подлинное не должно быть поверхностным. Оно не обязано быть сразу принятым. Это не трагедия – это часть миссии. В этом аспекте, я начинаю принимать непонятость как цену своей инаковости, своей правды.
Третье. Я нахожу в непонятости форму духовного одиночества. Непонятость – это не социальная неуспешность, а это духовная пустыня, в которой каждый истинно ищущий становится странником. И автор идёт по этой пустыне не потому, что его туда изгнали, а потому что туда ведёт мысль. В этом – зрелость. «Я не обижен. Я просто понял: путь глубже – всегда одинок», – таково мое суждение.
Четвертое: Главная боль – не в непонимании, а в том, что истина может не дойти. Это ключевой момент. Меня тревожит не личное, а глобальное чувство вины за то, что, возможно, правда, которую я обрел, не будет услышана – и значит, будет потеряна. Я чувствую ответственность перед временем, не только перед собой. В романе «Разворот времени» впервые обращаю внимание на то, что мы, врачи моего поколения, будучи опытными специалистами, управленцами, учеными мы не смогли противостоять пагубной идеологии рыночной медицины, когда врач теряет совесть, медицинская гуманность сдает свои позиции.
Пятое. В диалоге с Тенью – признание: «я боялся не тишины, а пустоты». Тень – его собеседник и внутренний судья – помогает осознать, что страх быть непонятым – не про самолюбие. Это страх исчезнуть без следа, не оставить ни смысла, ни следа, ни света. Это философия следа – важная для меня позднего: «Если никто не прошёл за мной по этой тропе – был ли она вообще?».
Седьмое. Ответ Тени и финальная рефлексия. В послесловии Тень словно утешает его: «Ты был услышан, даже если тебя не поняли. Потому что ты говорил честно. Это и есть знак – что тебя не забудут». И я впервые за долгие годы утешаюсь в том, что быть понятым не всегда возможно. Но быть честным – необходимо. Это и есть победа.
Итак, страх быть непонятым – это страх оказаться отключённым от Другого, но рефлексия приводит к мысли, если я говорил из сердца, то даже если меня не поняли – я всё равно передал. Смысл не в реакции, а смысл – в правде, с которой ты вышел к людям.
Интересен мой диалог с Тенью:
– Зачем я всё это делал? Зачем писал, шёл, искал, говорил?
– Чтобы найти самого себя. Того, кого потерял не в мире, а в себе. Того, кого отдал на откуп статусу, службе, страху. Того, кто молчал, когда ты говорил. Того, кто плакал, когда ты улыбался. Тень – это не враг. Это тот, кто ждал.
– Но я не чувствую покоя. Я чувствую только возвращение. Но куда?
– Не в точку. В суть. Не в прошлое. В подлинное. Ты возвращаешься не туда, где был, а туда, кем был.
– Я хотел, чтобы меня поняли. А вышло – меня не слышали.
– Это не важно. Главное – ты говорил честно. Это и есть след. Даже если никто не ответил, тишина уже изменилась. Ты изменил её.
– Так я искал не истину?
– Ты искал себя – как правду. А значит, нашёл не знание, а смысл.
В буклете кандидата в академики, я, отразив свои научные достижения и признания, привел о себе как ученого такие слова: «… всегда плыл на веслах, не ожидая погоды, попутного ветра; плыл, постоянно оглядываясь вперед; плыл медленно, но было важно плыть долго, не останавливаясь, ибо на дрейфе потерялся бы еще больше; плыл долго, чуть не разучился ходить, почти не заметил, когда мысли научились летать по кругу и не только в пределах видимого горизонта…». Я пытался отразить таким образом философскую метафору всей моей жизни и мировоззрения, сжав в одну глубокую, поэтичную фразу. Многие, прочитав в буклете эти слова спрашивали о чем и что хотел выразить?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.











