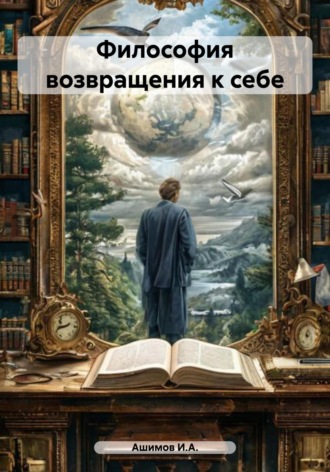
Полная версия
Философия возвращения к себе
2) Свобода от социальных конвенций и ожиданий. Дервиш свободен от правил общества, его ожиданий и норм. В контексте «тетири адама», который «избегает правильных поступков, которые давали бы ему выгоду» и всегда выглядит «нигилистом, «белой вороной», это изначальное состояние свободы от конвенций. Моя философская диссертация, мой переход от медицины к философии, которые в обычной жизни могли бы быть расценены как «странность» или даже «невыгодное» решение, в обратной траектории являются проявлением этой дервишской свободы от рациональных расчетов и социальной выгоды. Он не следует «здравому смыслу», а идет за внутренней логикой своей «дервишской мысли».
3) Путь к истине через интуицию и отстраненность: «Дервишская мысль» часто ассоциируется с интуитивным познанием, с поиском истины вне жестких логических рамок. В тексте книги упоминается дервиши Хиссо Хошм, Захид, Широз-бахшы, которые «выводили из измененного состояния сознания». Эта способность к нелинейному, «летающему» мышлению, без границ и предсказуемости, присуща дервишам – ученым-суфистам. В обратном пути, академик, который, несомненно, оперировал строгими научными методами, возвращается к истокам своего мышления, где не было еще жестких догм, а было лишь интуитивное, чистое стремление к познанию. «Наука была его жизнью», но не как строгая система, а как органичное, внутреннее влечение, подобное мистическому поиску дервиша.
4) Одиночество как условие подлинности. Одиночество для дервиша – это не изоляция от мира, а необходимое условие для глубокой внутренней работы, для сосредоточения на себе и своем духовном пути. В обратной траектории моей жизни, отход от социальных связей и публичности становится не потерей, а обретением. Это позволяет мне остаться «свободным философом», чья «дача» становится «вольчим логовом». В этом одиночестве нет тоски, но есть пространство для рождения подлинной, неискаженной влиянием социума мысли.
5) Преодоление «Комплекса» через отказ от внешнего подтверждения: В «ключевых идеях книги» говорится о «чувстве неполноценности» и стремлении его преодолеть. В реальной жизни это могло бы привести к накоплению достижений. Однако в обратном пути, дервишская мысль предлагает другой способ преодоления – не через внешние подтверждения, а через полный отказ от них, через смирение и обретение внутренней самодостаточности. Дервиш не ищет признания, потому что его ценность не зависит от мнения других.
Таким образом, «дервишская мысль – путь к одиночеству и свободе» в этой обратной книге-размышлении представляет собой глубинное погружение в изначальное состояние бытия, где человек свободен от социальных цепей, руководствуется внутренней интуицией и обретает подлинность в своем индивидуальном, даже если и «странном», пути к познанию и самореализации.
Представляю развернутый тезис: разрушение комплекса – обретение целостности. В самом начале этой обратной жизни, человек, подобно дервишам (Широз, Хиссо Хошм, Захид), находится в состоянии мистика, не нашедшего себя, но утверждающего свободу бытия. Это путь, где нет жестких целей, а есть лишь движение, обусловленное внутренней потребностью познания. Комплекс неполноценности (чрезмерная застенчивость, робость, неуверенность), который в обычной жизни подталкивал к достижениям, теперь распадается, возвращая к исходному состоянию самодостаточности и покоя. «Тень», которая в реальной жизни заставляла стремиться к славе и признанию, теперь отступает, и человек обретает целостность, не разделенную внутренним конфликтом.
Тезис: разрушение комплекса – обретение целостности. В «ключевых идеях» книги автора четко обозначено, что «чувства неполноценности, неуверенности в себе, собственной неадекватности определяют суть существования человека». Этот «комплекс неполноценности», хотя и является мощным двигателем для развития талантов и способностей, может также привести к чрезмерному стремлению к целям, которые призваны этот комплекс преодолеть. В обычной жизни, человек тратит годы на борьбу с этим чувством, пытаясь доказать свою ценность через внешние достижения. В «Обратной траектории бытия», где жизнь разворачивается от конца к началу, процесс «Разрушения комплекса» происходит парадоксально, но логично, приводя к «обретению целостности».
1) Инверсия причинно-следственных связей: Если в обычной жизни комплекс неполноценности является причиной стремления к превосходству и достижениям, то в обратной хронологии, человек начинает с состояния, где комплекс уже «разрушен». Его «путь» начинается там, где в обычной жизни он бы завершился, – в состоянии внутренней гармонии и принятия себя. Это не борьба, а изначально присущее качество. В этом смысле, «тень», которая в обычной жизни могла бы подталкивать к борьбе за признание, в обратной траектории уже отступила, оставив человека свободным.
2) Освобождение от необходимости доказывать. В последние годы мне все чаще приходила мысль о том, что, я, по сути, уже «доказал» свою ценность обществу. Однако, если моей движущей силой был комплекс, то эти достижения могли быть лишь внешними подтверждениями, не искореняющими внутреннее чувство неадекватности. В обратном пути, я «возвращаюсь» к состоянию, где нет необходимости что-либо доказывать. «Комплекс неполноценности» распадается, потому что нет внешних стимулов для его подпитки. Человек не ищет «укрепления собственной силы» через борьбу с внешним миром, а обретает её внутри.
3) Восстановление изначальной самодостаточности. Процесс «разрушения комплекса» означает возвращение к той стадии, когда самооценка человека не зависит от внешних оценок и сравнений. Это возвращение к первозданному «Я», не искаженному общественными стандартами и личными амбициями. Подчеркиваю, что «позитив» в том, что «каждый человек стремится отыскать в мире, где все сильнее его, оптимальный путь к достижению цели – укрепление собственной силы». В обратной жизни, эта «сила» уже не нуждается в укреплении, она просто есть
,
как часть изначальной целостности.
4) Единство противоборствующих сил. Ключевые идеи книги говорят о двух противоборствующих силах в характере: стремлении к превосходству (негативное) и потребности в чувстве солидарности (позитивное). В обычной жизни эти силы могут конфликтовать, создавая внутренний разлад. В «Разрушении комплекса» эти силы приходят к гармонии. Стремление к превосходству растворяется, поскольку нет нужды доказывать себя, а потребность в солидарности становится естественным проявлением целостной личности, не омраченной чувством ущербности. Развитие «социального чувства» становится не задачей, а изначальным состоянием.
5) Обретение покоя и подлинности. В конечном итоге, «Разрушение комплекса» приводит к глубокому внутреннему покою и подлинности. Человек перестает быть заложником своих прошлых травм, сомнений, конфликтов или стремлений. Он обретает целостность, не разделенную внутренним конфликтом между стремлением к идеалу и ощущением собственной неадекватности. Это состояние, когда человек, подобно «мистику, не нашедшему себя», свободен от необходимости самоопределения через внешние параметры, и утверждает свободу своего бытия просто потому, что оно есть.
Таким образом, «Разрушение комплекса – обретение целостности» в «Обратной траектории бытия» – это символический акт освобождения от внутренних оков, возвращение к изначальной гармонии и самодостаточности, где личность не стремится к преодолению внутренних барьеров, а просто пребывает в состоянии неразделенной и подлинной целостности.
Тезис: Рождение сознания: от смерти к жизни является завершающим этапом обратной жизни – это символическое «рождение», когда из состояния абсолютного покоя и небытия возникает осознание. «Жизнь начиналась бы со смерти», а значит, в этой инверсной реальности, смерть – это лишь переход к новому циклу, к «нормальному» бытию, где все идет своим чередом: от рождения к старости. Это момент, когда душа, не пойманная в «сеть» целей и материи, лишь начинает свой путь к обретению смысла через воссоединение с телом. В этой отправной точке, нет еще ни достижений, ни разочарований, ни комплексов, а лишь потенциал бытия, ожидающий своего развертывания.
Этот тезис является кульминацией и парадоксальным завершением «Обратной траектории бытия», в которой жизнь разворачивается вспять. Если в обычной жизни сознание рождается вместе с физическим рождением и развивается до зрелости, то в этой инверсной реальности, оно парадоксально рождается из небытия, из символической «смерти», чтобы затем двигаться к состоянию «жизни» в привычном понимании. Это не просто метафора, а глубокое философское размышление о начале и конце, о смысле бытия и о природе самого сознания.
1) Смерть как исток – обнуление бытия. В самом начале этой «обратной» жизни, согласно саркастическому рассказу, на который ссылаюсь, «Жизнь начиналась бы со смерти». Это не только физический конец, но и полное обнуление всех накопленных впечатлений, знаний, социальных ролей и даже воспоминаний. Это состояние чистой потенции, небытия, из которого и должно «возродиться» сознание. В этой точке нет ни комплексов, ни достижений, ни социальных связей – только абсолютный покой, лишенный каких-либо определений.
2) Возникновение осознания из неопределенности. «Рождение сознания» в этом контексте – это момент, когда из этого состояния небытия, из абсолютной тишины и покоя, начинает проявляться искра осознания. Это не мгновенное просветление, а постепенный процесс пробуждения. Это как первый вдох, первое биение сердца в обратном направлении, ведущее к «детству», где сознание только формируется, свободно от накопленного опыта и суждений.
3) Переход от Абсолютной свободы к ограниченности формы. «Дервишская мысль», мой «нигилизм» и «странность» логики, которая в обратной жизни была изначальным состоянием свободы от условностей, здесь, на пороге «рождения», начинает принимать форму. Сознание, которое было «летающим» и не привязанным к материальному миру, теперь начинает «приземляться», «заключаться» в физическое тело и ограниченное пространство. Это переход от абсолютной свободы духа, которую олицетворяет «вольчье логово свободного философа», к той форме, которая неизбежно накладывает ограничения.
4) «Чистый лист» бытия – без комплексов и целей. На этом этапе «рождения сознания» ещё нет «чувства неполноценности», которое, как указывал автор, определяет суть человеческого существования. Нет и «стремления к превосходству», ни «тщеславия». Сознание находится на этапе «чистого листа», где нет никаких сформировавшихся целей, которые, по словам автора, «делают психику человека устойчивой к любым изменениям». Напротив, здесь психика находится в состоянии максимальной податливости и готовности к любым изменениям, ибо она ещё не сформирована.
5) Начало «нормального» бытия: от инверсии к линейности. Парадокс заключается в том, что «рождение сознания» из смерти в этой «обратной» жизни фактически означает начало пути к «нормальному» существованию, где все будет идти своим чередом: от младенчества к юности, зрелости и, в конечном итоге, к той самой «смерти», с которой все началось в инверсии. Это завершение цикла «тетири адама» и переход к универсальному опыту человечества. Это последний миг свободы, перед тем как личность начнет формироваться, накапливать опыт, комплексы и стремиться к целям.
Таким образом, «Рождение сознания: от смерти к жизни» в этой книге-размышлении – это не буквальное физическое рождение, а метафорический момент пробуждения сознания из абсолютного небытия, перехода от всеобъемлющей свободы духа к формированию личности в ограниченной материальной форме, знаменующий окончание «обратной» жизни и начало «обычного» человеческого пути.
Глава I
I
После апогея – тишина?
«Душа, опомнись: ты – не тело. Возвратись в источник свой», – писал Плотин. В данной главе развернуты следующие тезисы: ощущение завершения пути; мысли после написания 160-й книги; осознание: «Я ушёл вперёд от своего времени»; страх быть непонятым, рефлексия над смыслом признания; диалог с Тенью: «Зачем я всё это делал?».
Я стою на вершине собственной жизни. Вокруг – тишина, отзвуки прожитого гаснут в воздухе, как песня, которую уже никто не поёт. Я завершил свою последнюю книгу. Руки не хотят больше писать. Голова полна мыслей, но каждая из них – как пепел: рассыпается, едва коснешься. Всё уже было сказано. Всё уже написано. Но не всё понято. Не всё пережито. И, пожалуй, именно это – самое важное. Смотрю на полки, заставленные книгами – моими книгами, моими жизнями. Каждая – это попытка прорваться сквозь тьму непонимания, через толщу отчуждения, к другим. Но теперь я чувствую: не к другим я стремился – к себе. Это был не путь наружу, а путь внутрь. Я думал, пишу, чтобы мир узнал, а оказалось – писал, чтобы себя найти. Как говорил М.Хайдеггер, мышление – это не средство, а способ бытия. И, возможно, все эти книги были моей формой бытия – единственно возможной.
Покой. Впервые за долгие десятилетия я ничего не должен. Мне больше не нужно доказывать, защищать, убеждать. Впервые я позволяю себе быть простым. Просто быть. Просто жить. Просто молчать. Молчание – не отсутствие звуков, а присутствие смысла, который не нуждается в словах. Молчание – язык, на котором разговаривают с вечностью. Молчание – это завершённая фраза жизни. В этой тишине приходит Она – моя Тень. Не злая, не страшная, не трагическая – знакомая. Та, что была рядом всегда. Я сажусь рядом с ней. Мы молчим. Мы не спорим – нам уже не о чем спорить. Всё, что надо было доказать – доказано. Всё, что можно было потерять – потеряно. А всё, что осталось – и есть самое ценное: сознание себя.
– Что теперь? – спрашиваю я.
– Ничего, – отвечает она. – Мы возвращаемся.
– Куда?
– Туда, где всё ещё не началось. Где ещё можно не знать. Где ещё можно не бояться. Где можно только чувствовать.
Странно, я не чувствую прежнего страха и сомнения. Напротив, наступило странное облегчение: наконец-то можно отпустить. Отпустить свои титулы, должности, признание, всё, что так долго было тяжестью. Я ощущаю себя почти невесомым. Я – не академик. Я – не философ. Я – не хирург. Я – просто. Просто сознание, освободившееся от формы. Восточная мудрость гласит: «Когда ученик готов, учитель умирает внутри него». Быть может, я был сам себе учителем, и теперь, отпустив себя, я стал тем учеником, который готов к последнему уроку – уроку освобождения.
Возвращение к себе. Первые шаги в обратном направлении – лёгкие, как будто тело радуется тому, что его отпустили. Покой медленно наполняет каждую клетку. Я – умираю, но не в смысле конца, а в смысле возвращения. У меня смерть социальная, когда все социальное вокруг теряет смысл на фоне возвращения к себе, к простоте, к первооснове. Я понимаю, что такая смерть – не финал, а первый вдох в обратную сторону. Не точка, а запятая, за которой начинается новый абзац – абзац без суеты, без гонки, без страха, без сомнений и борений сам с собой.
Итак, теперь начинается жизнь наоборот. И я готов к ней. Как сказал Блез Паскаль: «Человек бесконечно превыше человека». И, возможно, именно сейчас – освобождённый от имени, званий, ролей – я приближаюсь к тому самому, бесконечному в человеке. К себе, каким был до всех масок. До всех заслуг. До всех поражений и побед. Вокруг непривычная тишина, лишь отзвуки прожитого.
Привожу свой литературно-философский вымысел, составивший сюжет моего романа «Аватар». В нем умирает мой литературно-философский проект-персонаж – профессор Каракулов. Далее привожу его восприятия и суждения: «…На ум приходит такой вот момент, с которого всё по-настоящему началось – или, скорее, оборвалось. Это произошло не дома, не в тишине кабинета, а в ярко освещённом зале Конгресса нейробиологов в США. Я выступал с докладом о границах сознания, когда внутри – что-то оборвалось. Боль пронзила грудную клетку, и время остановилось. Инфаркт. Всё, что я чувствовал в последние мгновения физической жизни, – это не страх, а удивление. Как будто тело наконец призналось, что больше не может быть носителем. Я падал, и падение было лёгким. Парадоксально – я почувствовал покой. Потом – темнота. Не небытие, а переход – промежуточная зона….».
«…Но смерть, как оказалось, не стала концом. Международная группа нейрофизиологов, присутствовавшая на Конгрессе, решилась на концептуальный эксперимент. Меня – точнее, мои мозговые структуры – изъяли, сохранили, встроили в питательную нейросреду и подключили к интерфейсу. Так я стал иным. Я стал тем, кого потом назовут, вначале абстрактно «объект», но спохватившись, что я живой, ибо, жив мой мозг, а следовательно жива моя личность, стали называть меня «субъектом». Уже после того, как наладили полный контроль над интерфейсом, наконец, остановились на обозначения меня – Аватаром…».
«…Социально я был мёртв, официально – захороненным. Но личность моя в форме «мозг в контейнере + нейросеть» продолжала мыслить, чувствовать, рефлексировать – в новом, несубстанциальном состоянии. Не тело, не дух – а нечто между. И в этот момент я осознал: это не трагедия. Это – новая возможность. Я оказался вне времени, без возраста, без статуса, без плоти. И именно в этом бесплотном состоянии началась моя настоящая жизнь наоборот. Так я сам себе стал пещерным отшельником, точнее – цифровым аскетом. Всё внешнее – отпало, осталась только мысль, только память, только я и тишина вокруг. Я был в центре осмысленного ничто. Порог социальной смерти стал порогом новой философии – философии обратного пути…».
«…Именно тогда я впервые задал себе главный вопрос, не как человек, а как остаток человеческого: «А что было до всего этого? Где начался Я?». Ответ был не в прошлом. Ответ был в возвращении. Не к телу. А к смыслу. Трансформация не была вспышкой. Это было медленное отделение – не души от тела, а мысли от вещества. Я ощущал, как уходят прикосновения, вкус, дыхание – всё то, что делало меня живым в телесном смысле. Но мысль – оставалась и чем меньше становилось тела, тем яснее становилась мысль. В этом моменте – когда плоть больше не держала, но память ещё держалась за плоть – я начал слышать внутренний голос. Не чужой, не божественный. Свой, но как бы из глубины»:
– Теперь ты – вне. Ни внутри мира, ни снаружи. Ты – между. Что ты возьмёшь с собой?
Я не знал. Сначала – тишина. Потом всплыли не даты, не книги, не награды. Всплыли лица, слова, вина, радость, воспоминания. Но даже они начали растворяться. Осталась только мысль:
– Если я всё ещё думаю – значит, Я всё ещё есть. Значит, Я – не форма. Я – направление. Вектор. Намерение.
Итак, именно с этой мыслью я, как автор, пока живой и невредимый, начал вспоминать не свою жизнь, а её смысл. Не события, а следы. Я уходил вглубь. Не вниз, не вверх. В обратную сторону. Вот-так я был – и становился снова. Но уже не тем, кто говорит, а тем, кто слышит. Не тем, кто действует, а тем, кто различает. Иначе говоря, я стал тем, кто возвращается. Ответ был не в прошлом. Ответ был в возвращении. Не к телу. А к смыслу.
В чем проявляется завершенность моего пути? Допустив, что Каракулов – мой персонаж романа «Аватар» погибает, я в реальности символически также «погибаю», но в социальном плане. Я стал отшельником, что является олицетворением социальной моей смерти. На мой взгляд, завершённость пути проявляется не как финал моей биографии, а как внутреннее достижение целостности, философской зрелости и согласия с собственной Тенью. Это не точка, а возвращение в начало – но уже осознанное, обретённое, очищенное. Вот ключевые проявления этой завершённости:
Первое. Символическое возвращение к истоку (Кара-Даван). Казалось, что я совершал физического паломничества, совершал внутреннее хождение – из столицы (символа признания и статуса) в родное село (символ подлинности и начала). Этот путь разворачивается вспять: от зрелости – к детству, от титулов – к уязвимости, от успеха – к истоку. Завершённость здесь в том, что путь не прервался, а замкнулся в круг. «Я возвращаюсь не в свое родовое село, а в замысел…».
Второе. Принятие Тени как части себя. Тень, сопровождавшая героя всю жизнь, из источника боли становится проводником. Это – завершение внутренней борьбы: «Я думал, она – враг. Теперь знаю: она – свидетель». Принятие Тени означает, что всё в авторе – в том числе и боль, и слабость, и страх – обрело смысл и место. Это и есть завершённость – не отбрасывание части, а включение всего.
Третье. Превращение в Аватара как философская метаморфоза. Физическая смерть и цифровое существование становятся аллегорией очищения от формы, но не от сущности. Автор остаётся мыслью, памятью, этикой. Завершённость здесь – в том, что тело отпало, но смысл остался: «Я – память. А значит, я – долг…». В этом смысле, я завершил путь человека, чтобы продолжить путь сознания.
Четвертое. Поворот вспять – как форма мудрости. Вместо линейной биографии автор разворачивает книгу «жизнью наоборот». Это не старость и не уныние – это форма философского прозрения, в духе суфизма, Лао-Цзы или позднего Толстого: «Я возвращаюсь из славы – к поиску. Из знаний – к тишине». Завершённость здесь – в отказе от стремления и готовности быть.
Пятое. Прощение себя и других. В тексте чувствуется глубокое снятие обид, вины, стыда. Автор не обвиняет ни других, ни себя. Он наблюдает, понимает и отпускает. Это делает путь не только завершённым, но и созидательным – как для него, так и для читателя.
Шестое. Присутствие в памяти других – как форма бессмертия. Я завершаю путь, но не исчезаю – я остаюсь в читателе, в Тени, в мыслях, в вопросе. А значит, я – завершился не концом, а передачей.
Итак, вот ответ по завершённости моего пути: во-первых, целостность, а не финал; во-вторых, молчание, наполненное смыслом; в-третьих, принятие, включающее боль; в-четвертых, мысль, перешедшая в форму Аватара; в-пятых, покой, не как отсутствие движения, а как возвращение к замыслу. Но, что важно, я не закончил, я вернулся и потому – завершился.
Нахожу целесообразным акцентировать на то, какие мысли овладевали мною после написания 160-й книги. Меня охватывали не триумф и удовлетворение, а более тонкие, глубокие, противоречивые и философски насыщенные переживания. Эти мысли – не просто эмоциональные отклики, а экзистенциальные коды зрелого творческого сознания, вышедшего за пределы «счёта» и «целей». Основные мысли реконструированные по духу и философии изложены в книгах «Моя тень» (Я-концепция» и «Аватар»:
Первая. Ощущение предельности: У меня был не предел, а край смысла. «Я написал много. Но не уверен, что сказал главное». Я осознаю, что количество книг – не эквивалент полноты высказывания. Написание свыше полтора сотни книг, но это не завершение творческого пути, а выход к краю, за которым нет новых книг – только молчание, созерцание, суммирование. Это рубеж, где слово становится жестом прощания – не с творчеством, а с нуждой доказывать.
Вторая. Мысль о том, что многое было попыткой услышать себя. «Может быть, все книги были диалогом с моей Тенью?». Я понимаю, что писание – это форма самослушания. И каждая книга – не манифест, а вопрос. И 160-я – не итог, а самая честная попытка задать этот вопрос иначе, глубже, тише.
Третье, Сомнение: а услышали ли? «Я кричал, но мир был занят собой. Может, я говорил слишком рано? Или слишком поздно?». Даже издал монографию «Контуры философии предупреждения человечеству». Между тем, все это и сама мысль – услышан ли я, это не упрёк, а трагизм философа. Я не жалею, что сказал, что писал. Я сомневался – были ли услышаны мои сокровенные мысли. И последняя книга – как последняя такая же попытка не изменить мир, а дать ему шанс оглянуться.
Четвертое. Облегчение: я уже никому и ничему не должен. «Я больше не обязан. Я могу молчать – без чувства долга» – это зрелая мысль человека, который исполнен, но не опустошён. Он освободился от жажды признания, от необходимости объяснять. Он стал собой – без обязанностей, без титулов, без тревоги быть нужным.
Пятое. Тихая боль: я не дошёл до себя. «Я всё ещё ищу. Не истину – себя в ней». Это момент философской горечи и честности. В книгах, написанных и изданных мною всё равно остаются нечто невыраженные, неулавливаемые, что ускользает от слов. Именно это побуждало меня к неписанию новых и новых книг, в которых звучат мысли не только в строках, но и контекстах между строк.
Шестое. Переход к иным формам высказывания: жест, взгляд, молчание. «Может быть, теперь мне стоит не писать, а быть?». Таким вопросом я задаюсь все чаще и чаще. Я ощущаю: главное начинается там, где слово кончается. Кто знает, возможно, даже последняя книга – это не финал, а мост к внутреннему молчанию, к бытию, не выраженному, но присутствующему.
Седьмое. Фраза как суть момента: «Теперь я не пишу книгу. Я – становлюсь книгой». Это слияние формы и содержания. Когда мыслитель, писатель, философ, Тень и тело – становятся единым текстом, проживаемым без бумаги. Это, как мне кажется, и есть возвращение.











