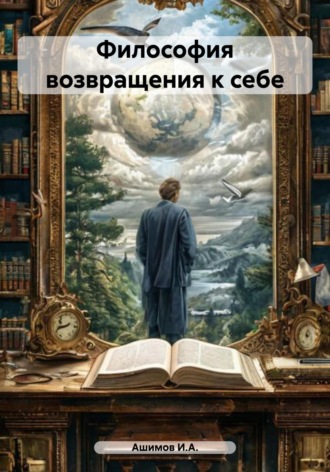
Полная версия
Философия возвращения к себе

Ашимов И.А.
Философия возвращения к себе
От автора
Жизнь может идти как обычно – от рождения к смерти. Но в этой книге она пойдёт наоборот: от смерти к началу. От академика – к мальчику с комплексом неполноценности, от написанных книг – к первой мечте о знании, от славы – к тишине, от философа – к хирургу, от учёного – к ребёнку. Но не для игры, а ради поиска того, что определяло суть жизни, когда всё ещё было впереди. Это – онтологический реверс, философский опыт взгляда на смысл жизни, если бы её можно было переиграть в обратном направлении – не теряя приобретённого знания.
Особенности книги: во-первых, нарастание простоты: чем глубже в прошлое, тем проще стиль; во-вторых, повествование от первого лица, насыщенное философскими размышлениями, образами, диалогами с Тенью, с читателем, с Богом, со временем; в-третьих, использование образа Дервиша как внутреннего аватара автора – не странствующего физически, а странствующего в духе, мышлении, науке; в-четвертых, цитаты, вставки, мифы, реминисценции встроены как «воспоминания из будущего».
Эта книга написана наоборот. Не по форме – по сути. Я не рассказываю о пути от детства к зрелости. Я возвращаюсь – из конца к началу. Из славы к поиску. Из знаний – к тишине. Я иду вспять, потому что только в обратном взгляде можно понять, зачем всё это было. Каждая глава – не просто воспоминание, а философский срез. Это попытка не только понять свою жизнь, но и услышать в ней – вашу. Не делайте из меня героя. Я не был исключительным. Я просто шёл. Иногда вслепую. Иногда – вопреки. И теперь, стоя у внутреннего истока, хочу поделиться тем, что нашёл не в книгах, а в собственной боли, в стыде, в труде, в молчании.
Здесь есть Тень. Она не враг. Она – свидетель. В каждом из нас живёт она – как комплекс, как память, как тоска, как шанс. И если мы перестаём с ней бороться – она становится нашим проводником. Я посвятил эту книгу не тому, кем стал, а тому, кем был. И тому, кем был каждый из вас – когда ещё ничего не знал, но уже всё чувствовал. Читайте её не с начала, а с конца. Не умом – ощущением. Не для вывода – для возвращения.
Введение
Когда я вышел на пенсию и оказался наконец наедине с собой, возникло странное и сильное желание: взять посох, надеть скромную одежду дервиша и пешком пройти путь из Бишкека в моё родовое село Кара-Даван. Между тем, это олее тысячи километров. Нет. Этот путь для меня не был бы физическим подвигом, он стал бы символом возвращения, очищения, раскручивания самого себя – вспять. Однако, я не пошёл. Но эта книга стала моим хождением. Здесь каждый шаг – это воспоминание, каждая глава – это символически остановка, где я оглядываюсь вперёд, чтобы увидеть, как я дошёл до истока. Я иду вспять, потому что только в обратном взгляде можно понять, зачем всё это было.
Важно осознавать то, что эта книга написана наоборот. Не по форме, а по сути. Я не рассказываю о пути от детства к зрелости. Я возвращаюсь – из конца к началу. Из славы к поиску. Из знаний – к тишине. Я иду вспять, потому что только в обратном взгляде можно понять, зачем всё это было. Каждая глава – не просто воспоминание, а философский срез. Это попытка не только понять свою жизнь, но и услышать в ней – вашу. Не делайте из меня героя. Я не был исключительным. Я просто шёл, иногда вслепую, иногда – вопреки. И теперь, стоя у внутреннего истока, хочу поделиться тем, что нашёл не в книгах, а в собственной боли, в стыде, в труде, в молчании.
Здесь была моя выстраданная Тень, которая не враг, а свидетель и соратник. Забегая вперед, хочу отметить, что в каждом из нас живёт она – как комплекс, как память, как тоска, как шанс. И если мы перестаём с ней бороться – она становится нашим проводником. Я посвятил эту книгу не тому, кем стал, а тому, кем был. И тому, кем был каждый из вас – когда ещё ничего не знал, но уже всё чувствовал. Читайте книгу не с начала, а с конца. Не умом – ощущением. Не для вывода – для возвращения. В отношении тени, разворота времени, возвращения в себя есть еще один литературно-философский момент, с которого всё по-настоящему началось – или, скорее, оборвалось. Это произошло не дома, не в тишине кабинета, а в ярко освещённом зале Конгресса нейробиологов в США. Профессор Каракулов – мой литературно-философский прототип, выступал с докладом о границах сознания, когда внутри – что-то оборвалось. Боль пронзила грудную клетку, и время остановилось. Инфаркт. Всё, что он чувствовал в последние мгновения физической жизни, – это не страх, а удивление. Как будто тело наконец призналось, что больше не может быть носителем. Он падал, и падение было лёгким. Парадоксально – он почувствовал покой. Потом – темнота. Не небытие, а переход. Промежуточная зона. Здесь уже мой сюжетный и композиционный вымысел – смерть, как оказалось, не стала моим концом. Международная научная группа нейрофизиологов, выполнеил оригинальный нейрохирургический, нейрофизиологический, нейробиохимический и нейросетевой эксперимент. Извлеченный мозг, а точнее мозговые структуры – изъяли, сохранили, встроили в питательную среду и подключили к нейросети , создав между ними интерфейс. Так он стал иным, стал тем, кого потом назовут – Аватар.
Социально Каракулов был мёртв, официально – захоронен. Но личность его продолжала мыслить, чувствовать, рефлексировать – в новом, несубстанциальном состоянии. Не тело, не дух – а нечто между. И в этот момент он осознал: это не трагедия, а это – новая возможность. Он оказался вне времени, без возраста, без статуса и без плоти. И именно в этом бесплотном состоянии началась его настоящая жизнь наоборот. Он сам себе стал пещерным отшельником, цифровым аскетом. Всё внешнее – отпало, осталась только мысль, только память, только его «Я» и тишина вокруг. Он был в центре осмысленного ничто, а порог его социальной смерти стал порогом новой философии – философии обратного пути. Именно тогда Каракулов, то есть я сам впервые задал себе главный вопрос, не как человек, а как остаток человеческого: «А что было до всего этого? Где начался Я?».
Трансформация не была вспышкой. Это было медленное отделение – не души от тела, а мысли от вещества. Я ощущал, как уходят прикосновения, вкус, дыхание – всё то, что делало меня живым в телесном смысле. Но мысль – оставалась. И чем меньше становилось тела, тем яснее становилась мысль. В этом моменте – когда плоть больше не держала, но память ещё держалась за плоть – я начал слышать внутренний голос. Не чужой, не божественный. Свой, но как бы из глубины:
– «Теперь ты – вне. Ни внутри мира, ни снаружи. Ты – между. Что ты возьмёшь с собой?».
Я не знал. Сначала – тишина. Потом всплыли не даты, не книги, не награды. Всплыли лица. Слова. Вина. Радость. Воспоминания. Но даже они начали растворяться. Осталась только мысль:
– «Если я всё ещё думаю – значит, Я всё ещё есть. Значит, Я – не форма. Я – направление. Вектор. Намерение», – думалось Аватару. И с этой мыслью я начал вспоминать не свою жизнь, а её смысл. Не события, а следы. Я уходил вглубь. Не вниз, не вверх. В обратную сторону. Я был – и становился снова. Но уже не тем, кто говорит, а тем, кто слышит. Не тем, кто действует, а тем, кто различает. Я стал тем, кто возвращается. Ответ был не в прошлом. Ответ был в возвращении. Не к телу. А к смыслу.
Книга-размышление в обратном порядке, основанная на концепции «жизни наоборот» из раздела «От автора в отношении пафоса сочинения» и данных о моем пути, изложенных в подразделах «Краткий обзор деятельности Ашимова И.А. по версии НАН КР» и «Дервиш XXI века». В книге приведены остановки пути дервиша, органично связывающих главы книги с символическим моим хождением из Бишкека в Кара-Даван. Эти вставки оформлены как краткие подзаголовки перед каждой главой, подчёркивающие внутренний и внешний путь героя:
Глава I. «Обратная траектория бытия: от мудрости к зарождению или остановленное мгновение».
Глава II. «После апогея – тишина». Остановка I. Граница между внешним апогеем и внутренней пустотой. Начало обратного пути;
Глава III. «Академик у зеркала». Остановка II. Токтогул – Точка обжигающего самоосознания: академик, оставшийся без отражения;
Глава IV. «Философия – вместо скальпеля». Остановка III. Джалал-Абад – Место, где хирург впервые меняет скальпель на мысль. Вода становится смыслом;
Глава V. «На операционном столе истины». Остановка IV. Ош – Подводный лес памяти: истина видна сквозь глубину и боль;
«Глава VI. «Комплекс – двигатель жизни». Остановка V. Кызыл-Кыя – Место замедления: здесь комплекс становится мотором движения;
«Глава VII. «Тот, кого считали чудаком». Остановка VI. Баткен – Перекрёсток воспоминаний: от изгнания к принятию своей инаковости;
Глава VIII. «Мир глазами ребёнка». Остановка VII. Исфана – Граница между зрелым мышлением и первичной уязвимостью детства;
«Глава IX. «Встреча с самим собой». Финальная остановка (VIII). Кара-Даван – Возвращение не в точку, а в замысел. Здесь всё начиналось. И здесь – конец круга.
Остановки – это не просто географические точки, а символические станции внутреннего пути. Почему это приемлемо? Во-первых, лаконично отделяется от основной главы; во-вторых, создаёт ощущение маршрута и духовной карты; в-третьих, элегантно встроено в текст, не нарушает поток чтения; в-четвертых, визуально выделяется как философский элемент, что имеет преимущество для медитативного чтения в духе паломничества; в-пятых, указывает на маршрутную структуру пути и философскую интонацию.
Нужно отметить, что в книге каждая остановка выделена символически, подчёркивая непрерывность пути, при этом сохраняется достоинство художественного ритма, а фразы под остановками работают как философские метки или смысловой эпиграф. На мой взгляд, использовать такую структуру по всей книге демонстрирует стабильный ритм философского паломничества, что органично сочетаеться с идеей дервишского хождения и с «жизнью наоборот».
Глава
I
.
Обратная траектория бытия: от мудрости к зарождению
или остановленное мгновение
«Кто смотрит вовне – спит. Кто смотрит внутрь – пробуждается», – писал К.Юнг. На мой взгляд, жизнь, которая начинается со смерти и движется вспять, предлагает уникальный ракурс для переосмысления каждого шага любой личности. В этой обратной хронологии мы наблюдаем не становление, а растворение достижений, не стремление к целям, а их отдаление, позволяя зрелому сознанию автора и глубокому его пути проявиться в новом свете. Это не просто инверсия времени, а возможность увидеть «полезность» обратного хода, где опыт уже однажды прожитого трансформирует восприятие каждого «возвращенного» мгновения.
В контексте «Обратной траектории бытия: от мудрости к зарождению», такое «остановленное мгновение» приобретает парадоксальный и глубокий смысл, становясь не просто временной паузой, а точкой метафизического разворота, призванной к переосмыслению и новому видению реальности.
1) Точка сингулярности обратного времени: Если в обычной жизни «остановленное мгновение» может быть мимолетной передышкой или моментом глубокой рефлексии, то в обратной хронологии оно выступает как краеугольный камень, как некая сингулярность, в которой привычный поток времени разворачивается вспять. Это не замирание, а скорее точка отсчета для движения в обратном направлении, где финал становится началом, а начало – кульминацией. Смерть, как начальная точка в этом обратном потоке, сама по себе является остановленным мгновением, из которого начинает разворачиваться вся прожитая жизнь.
2) Эпицентр переосмысления – «остановленное мгновение» в этой книге-размышлении – это не просто момент фиксации прошлого, а точка активного переосмысления для меня самого. Оно предлагает взглянуть на уже прожитую жизнь не как на линейную последовательность причин и следствий, а как на совокупность взаимосвязанных событий, которые, будучи развернутыми в обратном порядке, обнажают новые смыслы и связи. Это мгновение, когда мы сознательно останавливаемся, чтобы осознать не «как это произошло», а «почему это должно было закончиться именно так», или «что предшествовало этому завершению».
3) Источник глубокой рефлексии. Для меня, как автора, описывающего себя как «тетири адам», то есть живущего наоборот, «остановленное мгновение» становится приглашением к глубокой внутренней работе. Это не просто интроспекция, а попытка понять логику своих «неправильных поступков», своего «нигилизма», своей «белой вороны» через призму обратного хода. В этом мгновении он видит не проступки, а фундаментальные принципы, которые определяли его путь, даже если они шли вразрез с общепринятым. «Остановленное мгновение» позволяет ему не оправдывать свои действия, а постигать их внутреннюю обусловленность.
4) Проявление пафоса сочинения. Само создание книги-размышления о жизни в обратном порядке является актом «остановленного мгновения». Я, как автор не просто излагаю свою биографию, но и намеренно прерываю линейное повествование, чтобы предложить читателю новый способ восприятия. Этот «пафос сочинения» заключается в стремлении выйти за рамки обыденности, взглянуть на жизнь с необычного ракурса, тем самым побуждая читателя к собственной остановке и рефлексии над собственной жизнью.
5) Метафора вечности. В конечном итоге, «остановленное мгновение» может быть прочитано как метафора вечности, где время теряет свою линейность. Это взгляд на жизнь не как на цепочку событий, а как на единое, целостное существование, которое можно рассматривать с любой точки, в любом направлении. В этом «остановленном мгновении» прошлое, настоящее и будущее сливаются, открывая доступ к глубинным истинам бытия.
Таким образом, «остановленное мгновение» в данном контексте – это не просто пауза, а активный, осознанный и метафизически значимый акт разворота, переосмысления и погружения в глубины бытия, позволяющий взглянуть на жизнь с принципиально новой перспективы.
Представляется интересным разворачивание тезиса: забвение и смирение – отказ от известности. Мой путь, некогда наполненный жаждой самоутверждения и признания, в обратной перспективе начинается с желания уйти в забвение. Академик, автор множества книг и достаточно серьезных научных достижений, в этой инверсной реальности стремится не к новым публикациям, а к тому, чтобы мое имя было вычеркнуто отовсюду. Чувство разочарования, возникающее не столько от перегруженности успехами и званиями, сколько продолжающейся неудовлетворенностью, лимитирует движение вперед. Это состояние покоя и тишины, когда «Я» не перегружено внешними достижениями, а стремится к внутреннему умиротворению, становится изначальной точкой.
В обычной, линейной жизни человека, особенно ученого и философа, какими я сам себя представлял (автор двух научных открытий, одной научной идеи, свыше 160 монографий и книг, академик, Заслуженный врач КР, создатель научных школ), это результат моего стремления к известности, признанию и увековечиванию своих достижений, что оказался мощным двигателем. Мы стремимся оставить след, быть узнанными, получить одобрение. Однако в «Обратной траектории бытия», где жизнь разворачивается вспять, начальная точка – это смерть, а за ней следует не рождение, а забвение. И именно здесь «забвение, смирение, отказ от известности» становится парадоксальным, но логичным начальным этапом этой инверсной жизни.
1) Начало с завершения или смерть как источник забвения. Если жизнь начинается со смерти, то первое, что угасает – это память о человеке в мире. Все почести, звания, награды, признание – всё это постепенно стирается. «Заслуженный врач», «академик», «автор множество книг» – эти титулы, которые в обычной жизни являются кульминацией успеха, здесь исчезают первыми. Это не трагедия, а естественный процесс «обнуления», возвращения к изначальному состоянию небытия, предваряющему «рождение» в обратном смысле. В этом аспекте, забвение становится актом смирения перед неизбежным ходом времени, даже если оно инвертировано.
2) Освобождение от бремя известности: Для человека, который в реальной жизни достиг высокого уровня признания, известность неизбежно несет бремя. Это и общественные ожидания, и необходимость поддерживать имидж, и постоянное внимание. В обратном пути, отказ от известности – это акт освобождения. Он больше не обязан соответствовать никаким внешним требованиям. Он уходит от перегруженности успехом и «чувства выгорания, возникающего от перегруженности успехами и званиями», которое, как отмечает автор, «лимитирует движение вперед» в реальной жизни. В этой инверсной реальности, это «разочарование» служит катализатором для отхода от известности.
3) Смирение как внутренний путь. Забвение не навязывается извне, а принимается внутренне через смирение. Это не пассивное принятие участи, а активный выбор не стремиться к признанию, это отказ от тщеславия – того самого «тщеславия», которое в «ключевых идеях книги» не считается основной побудительной силой, но которое, тем не менее, часто сопровождает успех. Смирение здесь – это понимание, что истинная ценность не в «укреплении чувства никчемности, ущербности личности» через внешние достижения, а в развитии «социального чувства», которое в обратной жизни означает отказ от эгоцентричного стремления к славе. В свое время мною был создан общественный фонд «Смирение и Достоинство» (2001). Известно, что эти свойства человека тесно взаимосвязаны между собой, а в нашем случае уйти во время, смирится с судьбой, с будущим и неизвестностью означает уход с достоинством.
4) Восстановление истинной простоты бытия. В этом обратном потоке, когда известные детали моей жизни постепенно исчезают, остается лишь сущность человека, не обремененная внешними атрибутами. Это возвращение к той самой «простоте», которая предшествует всем социальным конструктам и достижениям. Это состояние, когда «Я» не перегружено внешними достижениями, а стремится к внутреннему умиротворению и тишине, становясь изначальной точкой самодостаточности.
5) Парадокс утраты и обретения. Таким образом, «забвение и смирение – отказ от известности» – это не утрата в привычном смысле, а парадоксальное обретение. Это обретение внутренней свободы, спокойствия и подлинности. Уходя от громких имен и званий, человек в этой обратной траектории находит себя не в публичном признании, а в глубинном внутреннем покое, становясь «волчьим логовом свободного философа», как окрестил мою дачу одногруппник, еще до того, как его известность начала «растворяться».
В итоге, «забвение и смирение, отказ от известности» выступает как фундаментальный акт деконструкции эго, возвращение к исходному состоянию недифференцированного бытия, где внешнее признание уступает место глубокому внутреннему покою и освобождению.
Интересен развернутый тезис: возвращение к простоте – от педагога к студенту. Мой обратный путь ведет от статуса известного ученого, педагога и организатора науки обратно к этапам обучения и становления. Профессор, основатель научных школ, возвращается к студенческим годам, где учеба не является самоцелью, а скорее площадкой для общения и осмысления. Моя ученость теперь предстают не как достижение, а как изначальное любопытство и тяга к познанию, которые постепенно угасают по мере «молодения». Отсутствие звездной болезни и акцента на личных успехах в реальной жизни находит отражение в этой обратной траектории, где я уже не стремлюсь к иерархическим чинам, а отхожу от них.
В традиционной моей биобиблиографии, представленной в книге «Мой творческий кейс», а также в разделах «Краткий обзор деятельности…» и отзыве «Дервиш XXI века», я вижу себя как педагога, профессора, основателя научных школ и как всякий ученый «читал лекции», «руководил научными работами», «формировал мировоззрение» студентов и аспирантов. Это образ учителя, наставника, распространителя знаний и формирователя умов. Однако в рамках «Обратной траектории бытия» этот путь инвертируется, и «возвращение к простоте» становится ключевым этапом в жизни, разворачивающейся вспять.
1) Декомпозиция достижений и титулов: Если обычная жизнь строится на накоплении знаний, опыта и регалий, то в обратном пути происходит их постепенное «растворение». Профессорское звание, академический статус, почетные должности – все это отступает. Человек не стремится к вершинам академической иерархии, а, наоборот, отходит от них. Этот процесс не является потерей или упадком, а скорее освобождением от груза ответственности и ожиданий, связанных с высоким статусом. Простота здесь – это не примитивность, а отказ от избыточного, от внешних атрибутов успеха.
2) Отдача знаний и возвращение к познанию: Педагог – это тот, кто отдает знания. В обратной же моей жизни, вместо того чтобы читать лекции, «возвращаю» их себе, перестаю быть источником мудрости и вновь становлюсь её искателем. Моя роль меняется с активного субъекта обучения на пассивный объект, с учителя на ученика. Это символизирует не столько незнание, сколько восстановление изначального любопытства и открытости миру, которое часто теряется под давлением экспертной роли.
3) Повторное переживание становления. Путь от профессора к студенту означает возвращение к годам формирования личности и интеллекта. Это возможность пережить заново студенчество, не как этап, ведущий к будущей карьере, а как самоценный период. Где ранее были строгие учебные планы и обязательства, теперь – возможность для свободного, не отягощенного целями познания. Моя «универсальность» и «энциклопедичность» в этой обратной траектории проявляется как изначальная, недифференцированная тяга ко всем областям знания, которая постепенно сужается по мере приближения к «детству».
4) Смена фокуса с внешнего на внутреннее. Достижения в преподавании и организации науки (создание научных школ, руководство аспирантами) ориентированы на внешний мир – на передачу знаний другим, на влияние. Обратное движение к студенческому состоянию смещает фокус вовнутрь. Это возвращение к личному осмыслению, к собственному процессу обучения, к тем моментам, когда знания усваивались не для передачи, а для собственного понимания мира. Это подчеркивает тот аспект моего характера, который в «Дервише XXI века» описывается как «не имеющий звездной болезни», «не делающий акцента на личных успехах» – в обратной жизни это становится естественным состоянием, а не результатом сознательного выбора.
5) Переоценка ценностей образования: Этот тезис также побуждает к переосмыслению самой природы образования. Что важнее: процесс накопления регалий и статуса или само чистое стремление к познанию? В «Обратной траектории» в той или иной степени демонстрирую, что истинная ценность лежит не в титулах, а в непрекращающемся процессе ученичества, в открытости к новому, в готовности быть «пустым сосудом», готовым к наполнению.
Таким образом, «возвращение к простоте» в этой обратной книге-размышлении символизирует не регресс, а освобождение от социального груза, возвращение к изначальной чистоте познания, к неотягощенному целями и амбициями процессу обучения, где сама жизнь становится главной школой, а человек – вечным учеником.
Оригинальным, по сути, является развернутый тезис: дервишская мысль: путь к одиночеству и свободе. В обратном ходе времени, стремление к одиночеству и «дервишской» судьбе, которое я описываю как неотъемлемую часть своей мыслительной деятельности, становится физическим состоянием. Кабинетный ученый, который не переносит поездок и любит тишину, в этой обратной жизни оказывается странником, дервишем, чьи мысли «летают» без границ и предсказуемости. Этот «дервиш» не ищет доказательств и логических обоснований, а, подобно своих героев – Широзу-бахшы (роман «Тегерек»), Хисс Хошм (роман «Клон дервиша»), Захид (роман «Поиск истины»), стремится к сути вещей через интуицию и измененное состояние сознания. Отказ от общепринятых норм и «странность» жизни, присущие ученым-творцам, становится их изначальным состоянием. Здесь рождается понимание, что «наука была его жизнью», но не как тяжкий труд, а как изначальная, нерефлексивная связь с познанием.
В традиционном понимании, дервиш – это странник, аскет, человек, отказавшийся от мирских благ и социальных связей ради духовного поиска и свободы. Согласно моего контекста образ дервиша кажется парадоксальным. Однако у меня были все основания считать себя «тетири адамом» – человеком, живущим наоборот, в своей уединенной даче – «вольчем логове свободного философа». Именно это внутреннее состояние, эта «дервишская мысль» становится ключевым элементом в обратном путешествии по жизни. В «Обратной траектории бытия», где жизнь движется от конца к началу, «дервишская мысль» проявляется как изначальное, глубинное состояние, к которому возвращается личность, освобождаясь от внешних наслоений.
1) Инверсия внешнего и внутреннего: В обычной жизни, человек сначала живет в социуме, стремится к успеху, а потом, возможно, в зрелом возрасте, приходит к осознанию потребности в одиночестве и внутренней свободе. В обратной хронологии, «дервишская мысль» – это не результат, а отправная точка. Человек уже находится в состоянии внутренней свободы и одиночества, которое не является следствием разочарования, а скорее первичным условием его существования. В этой перспективе, я, будучи «кабинетным ученым», который «не переносит поездок и любит тишину», изначально предстает как человек, чья внешняя изоляция соответствует внутренней потребности в сосредоточении, что является одним из аспектов дервишской жизни.











