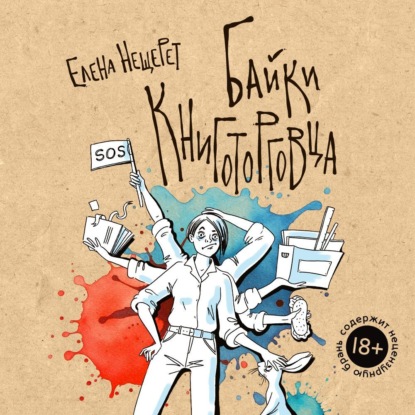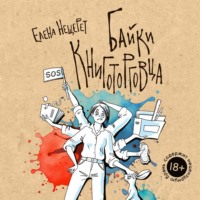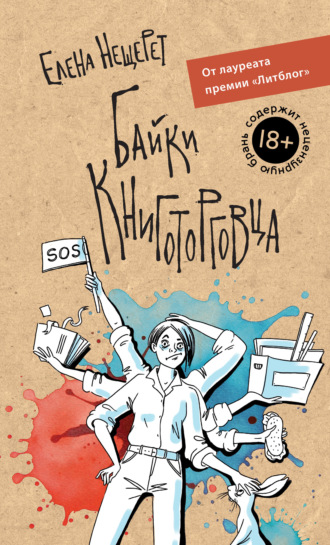
Полная версия
Байки книготорговца
Да, я продажник. Да, моя задача – торговать, и торговать как можно шире и успешнее. И да, мне выгодно сладкими песнями завлекать детей в свои сети, из которых они вырвутся через двадцать лет постоянных чудовищных трат со стопкой фэнтези, и то лишь для того, например, чтобы основать свое издательство. Конечно, мне выгодно, чтобы люди читали больше. Но мне также выгодно, чтобы их выбор был здоровым и осознанным, потому что жертва рекламы как покупатель любого товара обычно живет куда меньше здорового осознанного потребителя. А быстрая прибыль в книжном деле – штука почти мифическая, так что всегда нужны здоровые, крепкие вассалы, которые приносят тебе ежемесячную дань сами, с радостными улыбками на лицах. Или, если образ выше слишком устарел (как? уже?), можно выразиться иначе: нужен постоянный круг единомышленников, которые станут двигать тебя вперед, ради которых ты будешь готов добыть книгу хоть с края света. И которые взамен дадут тебе скопить на аренду, новые книжки и говяжий дошик.
Короче говоря, нужно сообщество, и поэтому нужно откуда-то взять, как-то воспитать родителей и прочих старших, которые будут ребенка брать с собой за книжными покупками. Традиционно считается, что детей нужно водить на всяческие мастер-классы и дополнительные некнижные и не совсем книжные активности в книжных магазинах: как только дитя окажется в этом царстве знаний, уникальной атмосферы и ярких страничек, оно поймет, и немедленно сделается читающим, и…
Нет. Дети приходят на мастер-классы только ради мастер-классов, никакого дополнительного шевеления в сторону заинтересованности чтением у них не происходит. Почему? Потому что нет ощущения, что без книг ты упускаешь что-то невероятно важное, что-то самое интересное. Да и сама по себе покупка бумажных книг – тоже ритуал. Так что стоило бы обращать внимание именно на него и устанавливать его в каждой конкретной семье, но это, увы, возможно только в каком-нибудь совсем идеальном мире, в котором уставшие взрослые не пытаются запереть своих отпрысков где и с чем угодно, лишь бы отделаться от них.
Итак, когда взрослый приходит покупать книжки для ребенка без этого самого ребенка – чего он хочет? В лучшем случае – сделать ему сюрприз и принести новую книжку знакомого автора или той серии, которую ребенок уже знает и запоем читает. В общем, взрослый знает запросы и может в них попасть.
Но таких очень немного. Гораздо больше усталых родителей, которые в последний момент перед отправкой чада на дачу собирают ему обязательное летнее школьное чтение, не думая, какие объемы за оставшееся время чадо реально осилит, что из списка уже может быть у бабушки в шкафу, а что можно нахально стырить в интернете. И, естественно, тяжко вздыхает, какие нынче книжки стали дорогие и как мало классики нынче в магазинах. Понимаю и не осуждаю: очень часто сама покупаю что-то раньше, чем успеваю подумать. Но как же хорошо эти мелочи показывают, что человек в принципе сам не привык читать! Иначе примерно знал бы, что библиотеки еще не вымерли, а даже модернизировались, что книжки дорожали довольно плавно последние десять лет (а не книжники за одну ночь всей компанией охренели), ну и что электронные и аудиокниги тоже существуют, и иногда даже лучше ребенку скормить аудиокнигу по программе – например, на прогулке.
Но всю эту информацию очень редко удается до человека донести, потому что человеку в целом плохо в непривычном месте среди огромного количества непривычных предметов. И книготорговец для человека – некто хищный и принципиально чуждый. Советы от такого принимать – себе дороже, еще походя впарит что-нибудь.
Вот кого я действительно почти ненавижу, так это идейных бабушек любого возраста и пола. Самую яркую видела на Книжном салоне.
– Моему внуку восемь дней, и он вырастет воином! Срочно дайте что-то про победы и сражения! Детский Суворов есть? Почему нет?! Я такой скандал учиню!
Да, это крайняя степень шизы, но она очень ярко показывает пугающую тенденцию – замариновать ребенка в некой стерильной идеологии с обязательным пристегиванием ненависти к инакомыслящим.
Идейная бабушка будет читать внуку только правильные книжки: освященных веками авторов, с правильными картинками. Как ни парадоксально, они практически идеальные покупатели, самые беспроблемные. Во-первых, детей с ними нет, потому что они берегут детей от дурных влияний и никогда не покажут им книжек, которые не рассмотрели на предмет крамолы. Во-вторых, они очень быстро и в самых ярких красках расскажут, чего хотят, а что нужно немедленно сжечь. В-третьих, знакомый с их идеологией человек может продвинуть им что угодно, если найдет правильный набор пропагандистских формул. И в-четвертых, их легче всего задавить авторитетом, потому что против аргументов ad hominem они почти бессильны.
Как пример вспоминается одно утро в книжном на Восстания. В огромный «Буквоед» входит женщина. Она совсем не старая, зато мне девятнадцать, так что я немедленно начинаю считать ее жутко взрослой. Итак, Взрослая Тетя оглядывает полки и ощутимо морщится от кричащего разнообразия всех этих современных новинок и бестселлеров. Она подходит ко мне и повелевает: «Найдите хорошую детскую книжку!» Именно хорошую, а не весь этот современный шлак вроде «Хроник Нарнии».
А у меня бабушка – классический нарцисс-абьюзер. Тон «ты понимаешь ли, с кем говоришь, червяк» я освоила раньше, чем выучила «Верую» наизусть. И стоило, конечно, сначала выяснить идеологию Взрослой Тети получше, но я была тогда все-таки очень юна и при мне только что оскорбили мою любимую книгу. Поэтому моего тона хватило бы для шоковой заморозки Преисподней. Я процедила (ненавижу это слово!):
– Как вы можете не знать, кто такой Льюис?
Тетя оторопела. То ли не ожидала от меня такой смелости, то ли узнала интонации своей сволочной свекрови и впала в кататонию. Мне хватило секунды, чтобы закрепить успех:
– Великий христианский богослов. Видный ученый. Классик. Оксфордский преподаватель. Друг Толкина – или эта фамилия вам тоже ни о чем не говорит?
Здесь я ужасно рисковала – Тетя могла теоретически уметь отличать православных от англиканцев и просто назвать Льюиса еретиком или лучше – в принципе объявить его агентом загнивающего коллективного Запада, но она то ли с перепугу, то ли от уважения к всеобщим христианским ценностям не стала возражать.
А раз возразить она не успела, мне осталось только добить пассивной агрессией:
– Если уж Льюис с его евангельскими отсылками – современный шлак, то что говорят о несчастных Крапивине или Стругацких…
Взрослая Тетя на глазах сморщилась до размеров двоечницы. Видимо, Стругацких читал ее ворчливый отец. Или еще кто авторитетный.
Но самое жуткое – она купила эти несчастные «Хроники». Тут же. Первое попавшееся издание.
А моя эйфория от понимания, что я могу манипулировать людьми, сменилась горечью уже к концу недели.
Но при чем тут идеальная книга?
О, вот это самое интересное.
Чем больше человек читает, тем дальше он от идеальной книги. Он привыкает, что радость от прекрасно собранного научного труда сложно разделить с неакадемическим другом, любимые книги его детства и любимые книги его детей – не одни и те же, вкусы в книжной иллюстрации у всех тоже разные, и еще миллион причин, по которым книга не может и не должна быть нужной всем и любимой всеми.
А вот человек, который не особо привык читать, мечтает о книге, которую можно использовать получше, чем кита в алеутской деревне в голодную зиму: с картинками на каждой странице, чтобы читать самым маленьким, и набрана крупным шрифтом, чтобы семилеткам удобно было учиться читать самим, и веселая, и поучительная, и чтобы мальчики, почитав ее, вырастали мужественными, а девочки – женственными, а еще чтобы она была в качественном переплете, на хорошей бумаге, не слишком толстая (но не меньше пятисот страниц!) и непременно легкая, чтобы брать ее с собой в дорогу да набираться духовности.
И да – она должна быть знакома мечтателю. Потому что если он в своем детстве об этой книге не слышал, значит, никуда эта книга не годится.
А, и чуть не забыла. Картинки должны быть гиперреалистичные, но благостные, воздушные, но с четкими контурами, светлые, но не чересчур милые. И для мальчиков чтобы с самолетами и поездами, а для девочек чтобы с цветами и принцессами.
И бумага должна быть, конечно, мелованная.
Мне в какой-то момент стало интересно, и я начала спрашивать, что сам взрослый сейчас читает. Очень частый ответ – «Да некогда мне читать, работаю». На втором месте – любители читать и перечитывать классику, которую нашли много лет назад. Джордан Питерсон со своей системой классификации сказал бы, что у этих людей высокий показатель консервативности в мышлении, а я просто иду искать репринты или переиздания со старыми картинками. Иногда срабатывает, а иногда нет. Одно «нет» мне особенно запомнилось. Я уже давно очень скептически отношусь к утверждениям вроде «в детстве все было лучше», потому что никогда не читала о ностальгии как о механизме именно с точки зрения науки, поэтому живой пример того, как это может работать, меня прямо очень удивил и заинтересовал.
История вышла такая. Когда моя подруга, уезжая за границу, поручила мне распродать ее библиотеку, я часть книжек притащила к нам в «Голос». Там были сказки Шарля Перро в иллюстрациях Бычкова, издание 1960-х, что ли. Эти сказки себе лежали мирно в стопочке других книжек с картинками со всего мира, и тут в поставке к нам приехала такая же книга – репринт, где были сохранены и верстка, и шрифт, только цвета были восстановлены и формат увеличен.
Пришла ехидная бабуля с претензией: мол, книгоиздание выродилось, качество упало. Я взвилась:
– Как это, говорю, качество упало, когда вам и то, и сё, и пятое, и десятое, и цветная фольга на обложке?
– Нет, раньше иллюстрации были не в пример лучше и живее.
– Вот, – говорю, – вам целый Бычков, самый что ни на есть советский.
Она взглянула, немножечко смягчилась, но ненадолго:
– Все хорошо, только сейчас его почему-то напечатали тусклым каким-то и форматом меньше, чем был.
Тут уже меня черт потянул за язык, и я уточнила:
– Бумага тоже раньше была лучше?
– Конечно, поплотнее, чем здесь!
Когда я принесла ей эту старую книжку… Ну, в таких случаях наше испорченное интернетом поколение говорит так: «Ее лицо выдало ошибку 404».
Впрочем, у тоски по идеалу есть и не такие зловещие разновидности. Скажем, специалисты в разных условно узких сферах привыкли, что непременно есть лишь одна достойная внимания книга по предмету, единственный базовый учебник. Ну ладно, не единственный, но очень ограниченное количество. И это представление экстраполируется на художественную литературу, так что получаем «один лишь дедушка Толстой хороший был писатель». И еще эта позиция хорошо выдает тех, кто погуглил фразу «как стать богатым».
Однажды я продавала книги на фудкорте – то есть в совершенно непривычном месте, где никто обычно печатное слово застать не ожидает. Мы тогда с издательством организовали книжный фестиваль и специально пустились в эксперименты, чтобы найти свежую аудиторию, не охваченную странной модой читать бумажные книжки: договорились с огромным гастрокортом «Депо. Москва» и заняли у них место, где обычно люди сидят с подносами еды. Параллельно с нашей программой, которая шла внизу на сцене, некоторые посетители поднимались на второй уровень «Депо» просто поесть, обнаруживали там книжки и жутко удивлялись. А мы с огромным энтузиазмом рассказывали, что же тут такое делается, но где-то к середине дня уже немного устали отвечать на повторяющиеся очень наивные вопросы и на одинаковые пожелания:
– А Носов есть? А Наполеон Хилл? А «Майн кампф»?[1] (Да, обязательно находятся шутники, которым приходится объяснять про списки экстремистской литературы.)
Так что, когда я спустилась навстречу всему кулинарному многообразию, чтобы найти себе какой-нибудь еды и забиться в уголок, эти вопросы уже стучали мне в мозг изнутри, порождая тупое раздражение. И как назло, парень, который выдавал мне заказ, немедленно спросил:
– Вы ведь книжками торгуете, да? А «Богатый папа, бедный папа» у вас есть?
– Нет. А еще нет «Самого богатого человека в Вавилоне», «Пса по имени Мани», «Волка с Уолл-стрит» и «Зеленого короля».
– А откуда вы знаете, что я еще хотел спросить? У вас это уже спрашивали?
– Нет, просто я вижу будущее! Я – великая волшебница, умею прорицать грядущее и проходить сквозь стены через дверь, – ответила я не слишком учтиво. Для человека очень естественно злиться от голода. Кто-то, говорят, посчитал, что шансы на оправдательный приговор в суде выше всего, если дело рассматривают сразу после обеда. Не знаю, насколько это верно, но мне иногда хочется от злости на человечество стену прогрызть, если я долго не ела.
Пришел вот однажды дяденька. Сначала сказал, что просто сам посмотрит, что у нас такого есть, и действительно довольно долго медитировал на полки. Наконец расслабился и созрел для диалога:
– Где у вас рассказы Чехова?
– Вот такие есть.
– Это юмористические, а мне надо такие… ну… чтоб настоящие!
– Да вы посмотрите внутрь, какие там конкретно. Подозреваю, что «Хамелеон» там, «Крыжовник», «Анна на шее». Ну дык они и не смешные даже, а вполне себе о нашей жизни как есть. Не могу над ними смеяться, не понимаю где. Вижу одну суровую правду жизни и хочу, скорее, плакать.
– И то верно. – Он уткнулся в оглавление, но довольно скоро вынырнул и заверил, что все не то, что нужно. Молча сделал широкий круг по магазину и наконец совсем доформулировал: – Я ищу… Я ищу, понимаете, такую книгу, из которой стало бы действительно ясно, почему исчезла Российская империя, почему мы вообще ее потеряли и теперь так по ней тоскуем. Но еще я хочу, чтобы книга отвечала на современные актуальные вопросы. Объясняла, каким должен быть человек. Короче, мне нужен кто-то очень мудрый из того времени. Чтобы его можно было прочесть сейчас и все понять.
Я лет в шестнадцать хотела примерно того же, поэтому свою нижнюю челюсть, стремившуюся к полу, поймала быстро, секунд через пять.
– А пробовали читать «Окаянные дни» Бунина?
– Э-э-э, так он же за границей все свое написал.
– Постойте-постойте, он был в десятых годах прямо-таки хитовым автором, обласканным публикой, замечательно продаваемым, у одного только Горького тиражи были больше, чем у Бунина. И получил полторы Пушкинские премии, потому что две одному и тому же человеку не давали. И уехал уже известным, совсем сложившимся писателем, через двадцать лет частых публикаций в России. У него примерно поровну работ до и после эмиграции, это вам не Набоков, который уехал совсем юношей. И «Окаянные дни» – это как раз дневник перед отъездом.
– А! Ну я их, наверное, читал. Не помню. Что-то у Бунина точно читал.
– «Темные аллеи».
– О, вот они! Да, точно! «Темные аллеи»! Очень грустные рассказы.
– Кстати, вы знали, что они с Чеховым очень дружили? У них была разница в возрасте в двенадцать лет, но это им не мешало, потому что внимание к простому народу, любовь к текстам друг друга, похожий гедонизм… Короче, Бунин считал Чехова своим учителем и написал о нем прекрасные воспоминания, а еще…
Дяденька прервал меня с внезапным раздражением:
– Ну и дружили, а что это дало?
– Как – что! Чудесные воспоминания, взаимное влияние, да вот хотя бы нам сейчас интересно, какие связи были в литературном мире. Да и в целом: хорошо им было вместе, мало, что ли?
– Нет! Что это Чехову дало? И жена ему изменяла в театре-то своем, и вообще, что он может знать о том, каким должен быть человек? Каким мужчина должен быть? И какая должна быть женщина у него? Что он знать может вообще?!
– Он, думаю, просто очень по-хорошему наблюдательный.
– Ну и прекрасно ему, а мне-то что делать?! Победителем надо быть, а не наблюдателем. И на работе, и дома! И вообще!
Тут меня будто бы черт дернул:
– А вы почитайте Островского, «Как закалялась сталь».
– Да что мне ее читать, я ее в школе прочел! – Дяденька распалился так, что даже немного подскакивал, но как только произнес эти слова, вдруг резко остановился и ка-ак осознал: – А. Точно. В школе. Давно это было как-то. Действительно, пойду перечитаю. И заодно посмотрю, что у меня есть из Бунина. – И уже на пороге обернулся: – Хороший у вас магазин. Давно вы здесь?
– Пять лет.
– Надо же. Ну я теперь часто буду приходить.
Сначала я ужаснулась, что он может вернуться и мы действительно будем обсуждать эту несчастную «Сталь» и в принципе советский производственный роман зачем-то, а потом вспомнила, что люди почему-то довольно редко возвращаются, да и не факт, что будет именно моя смена, когда он явится, чтобы обсудить героизм комсомольцев двадцатых годов прошлого века.
Вот что с людьми делает христианская культура: они, сами того не осознавая до конца, ищут в книгах источник прозрения, проповедь, которая непременно озарит весь остаток их жизни и явит Путь.
Хорошо хоть немного реже в последнее время звучит вопрос «чему учит эта книга». Не перестаю благодарить небеса за это.
Зашла однажды женщина, попросила хорошую новую книгу, и коллега Илья радостно вручил ей «Скуггу-Бальдура», маленькую сказочную повесть, которую написал исландский поэт и друг певицы Бьорк. Вещь, при всей своей экзотичности, очень обаятельная, и очень многие, кто нам поверил, возвращались и хвалили.
– А если мне не понравится, – сказала женщина, – я вернусь и убью вас.
Через пару дней Илья пошел на обед в столовку, которая от нас через стену, и там она его настигла. Подкралась сзади и заявила, что прочла… и ей понравилось. И что это неожиданно круто, что она бы сама такое никогда бы не выбрала, а теперь рада и будет ходить к нам еще. Илья с обеда вернулся слегка катарсический, слегка предынфарктный.
Дайте то, что сейчас все читают!

– Дайте то, что сейчас все читают! Я прочла уже Ремарка, «Жизнь взаймы»! И читаю Айн Рэнд!
– А какие «все» вам нужны? «Все» бывают разные.
– Классика, классика!
– Подходы к классике тоже разные. Мало того – школьные программы в разных частях нашей страны разные.
– Ну вот что сейчас знают абсолютно все, а я пропустила?
– Нет никаких «абсолютно всех». Есть книжки, дико популярные в определенных кругах. В каждом кругу свои. Ладно. Давайте так: Европа, Азия? Или, может, Турция?
– А что Турция?
– Памук. Умница, нобелевский лауреат. Про Стамбул пишет много, радует его этот город. И в принципе про Средиземноморье.
– Нет, лучше Англия и Франция.
– А что не Америка?
– Да что там, в Америке?
– Рэнд, которую вы сейчас читаете.
– А! Ладно. А что есть еще?
– Фолкнер. Или Брэдбери, скажем. Хотя кто-то говорит, что он слишком фантаст. Вы читали «451 по Фаренгейту»?
– А кто его советует?
– Забейте в гугл слова «сто лучших книг всех времен», найдите десять неповторяющихся списков, он будет во всех.
– Правда?
– Или почти во всех. Точно во всех будет «1984».
– А это что?
– Одна из главных антиутопий.
– А какая самая главная?
– У каждого своя. Есть много премий, кругов, точек зрения, подходов, ситуаций, списков…
– Ладно. Что еще из Ремарка посоветуете?
– Закончился.
А надо было просто со словами: «Ка-а-ак, вы не читали?! Да это же главная книга всех времен, вы что-о?!» – сгрузить на человека полмагазина.
Но «1984» дама, кстати, взяла и так, чем меня удивила, потому что ответ на вопрос, что сейчас все читают, на моей памяти очень редко заставляет купить что бы то ни было.
Очень тяжко слышать вопрос: «А где книга, которую все читают?», потому что в ответ вопрошающий никогда с первого раза не верит. Если вам задали этот вопрос, поздравляю: сейчас из вас попытаются вынуть душу. Кстати, чаще всего автор вопроса пришел не затем, чтоб купить книгу, – ему нужно посетовать на падение нравов и порчу общественного вкуса. Или есть еще второй путь: вас будут очень долго расспрашивать, как же так получилось, что именно эту книгу сейчас все читают. Если вы попытаетесь объяснить, вас попытаются поймать на вранье и преувеличениях – или опять посетуют на падение нравов и порчу общественного вкуса.
Зачем ловить консультанта на вранье? Я не знаю, откуда пошло это довольно распространенное заблуждение, что в магазине непременно попытаются впарить что-нибудь недоброкачественное, и пока не знаю, какой придумать остроумный ответ, чтобы отключать в собеседнике этот механизм распознавания скрытой рекламы. Ведь если просто сказать, что маленьким магазинам никто за рекламу не платит, не поверят.
Иногда, правда, мне кажется, что не человеческие заблуждения тут виной. Просто где-то в недрах городской канализации живет чудище почище кинговского клоуна: некий псевдо-Сократ, который заражает умы несчастных прохожих так, что они находят какой-нибудь магазин и запускают там некое извращенное подобие сократического механизма поисков истины:
– А где здесь книга, которую сейчас все читают?
– Вот она!
– Странно… Говорите, все читают, а я никогда не слышал.
– Скорее всего, слышали, но не обращали внимания. Наверное, вы читаете не то, что все.
– А может быть, вам просто заплатили, чтобы вы хвалили эту книгу? Вон она у вас и специально на видном месте лежит. Что, слишком много напечатали, а теперь не можете продать?
– Нам не платят за рекламу конкретных книг.
– А как вы тогда план продаж делаете, а?
– На бумаге для принтера и скрепках.
– Ха-ха, ну все с вами понятно! А не пробовали продавать Достоевского?..
Вот что интересно, в магазины одежды такие тоже забредают, но реже. Правда, я никогда не торговала прямо одеждой, только пару месяцев продавала носки-перчатки-шапки-рюкзаки. И вот то ли недосократики впали тогда в зимнюю спячку, то ли в целом их привлекает только сфера культуры. У меня по этому поводу один слабый намек на гипотезу.
Дело в том, что книги, как и картины, – штука с относительной ценностью, которая не может быть быстро и гарантированно проверена. Иными словами, человек без специального образования и оборудования не отличает полотно старого мастера от подделки, а человек без привычки читать не может быстро определить ценность книги. И речь даже не о высокой общечеловеческой ценности, бог бы с ней. С ценностью чисто субъективной, с целеполаганием, для чего предмет – для пафоса, для морального комфорта, для расширения кругозора, – тоже проблемы.
Вообще люблю прокручивать в голове диалоги о книгах, подставляя вместо книг нечто совершенно другое, например трусы.
– А где здесь трусы, которые все носят?
– Вот они!
– Странно, а я вот другие ношу.
– Вы, наверное, человек с особыми вкусами!
– Да. Люблю, знаете ли, возвышаться над толпой. К тому же именно такие трусы завещал мне носить еще мой славный дедушка…
– Чем же славен ваш дед?
– О, поверьте, он – легенда. Его звали Максим, и когда он помер…
Хотя иногда действительно попадаются люди, которые хотят то, «что сейчас все читают», чтобы быть в контексте, идти в ногу со временем, лучше понять общество. Это великое стремление, и когда я с ним сталкиваюсь, обязательно пытаюсь выяснить, почему взрослый человек вдруг решил составить себе список обязательного летнего чтения и методично его прорыть от начала до конца – без попытки обсудить, прокомментировать, встроить куда-нибудь в свой внутренний контекст, просто потому что «эти книги должен прочесть каждый». И я даже зря, наверное, употребила глагол «составить»: такие списки очень часто живут в интернете готовые, периодически обновляясь и наводя суету в соцсетях. И как инструмент продаж книжные списки работают отлично: их сохраняют, с ними сверяются, – и упомянутые в них книги отлично продаются, хотя бы в электронной версии. Да, как продажник понимаю пользу, но как читатель – не постигаю. Потому и спрашиваю покупателей.
Чаще всего в ответах на вопрос, зачем нужно рыть эти списки, сквозит почти отчаянная надежда, что эта обязательная повинность как-то человека возвысит, что он проснется на следующее утро после того, как прочтет последнюю страницу последней книги в списке, – и вся его жизнь изменится, с глаз спадет некая незримая пелена, и тогда…
Вообще, конечно, я маюсь дурью, вместо того чтобы прокладывать путь к мировому господству. Рецепт господства на самом деле очень простой: составить свой список книг-которыми-каждый-должен-задолбать-библиотекарей-и-книготорговцев и опубликовать его на видном месте. Например, предложить в редакции «Фонтанки» и «Российской газеты», с которыми я и так внештатно сотрудничаю. А потом еще в какой-нибудь крупный медиаресурс пробраться. А потом выучить английский, приехать в Нью-Йорк и там тоже опубликовать где-нибудь в New York Times, а потом еще переделать этот же список для Forbes и после вернуться в Питер и ждать, когда люди придут за книгами из этого списка. И, конечно же, одновременно пытаться посоветовать что-то не из списка, чтобы все от тебя отмахивались со словами: «Подождите, у меня тут рекомендации из авторитетного источника». На этом месте злобно хохотать и запахиваться в свой черный злодейский плащ.