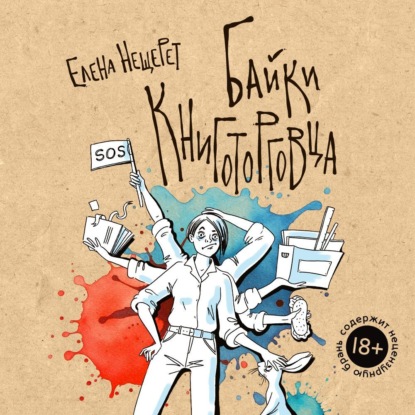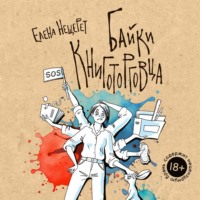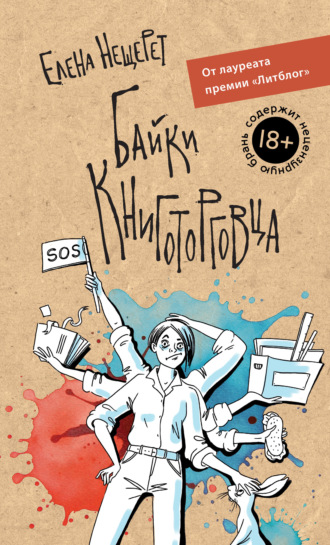
Полная версия
Байки книготорговца
Нет, вот если серьезно – поиск книг, закупка, сортировка, каталогизация, очистка от пыли – все стоит букинистам сил и времени, а значит, по-хорошему должно оплачиваться. Однако у нас и новые-то книги стоят так, что не могут прокормить команду, которая их выпускает.
Дед с Супругой явились даже раньше открытия, ждали меня с четверть часа и, кроме денег, принесли печенье к чаю. Во мне опять проснулась совесть и сказала, что брать с них не пятьсот рублей, за которые я нашла этот двухтомник, а целую тысячу – бесчеловечно. Но они явно были рады книге и явно были готовы заплатить и больше, так что я напомнила своей совести, что мы с ней рано встали и долго ехали.
А на вырученные деньги я немедленно купила сказки Гримм в мрачных и вычурных картинках Буркхарда Найе, которого нежно люблю.
Через неделю они пришли опять вдвоем и рассказали, что нашли птичку по добытой мною книге. Им не давал спать и есть обычнейший дрозд-рябинник.
Дед, выцепляя из выкладки индивидуумовский «Сам секс», говорит Супруге:
– Ну что, как думаешь, возьмем?
Супруга, чопорно, но и немного хитро:
– Лично меня в моем возрасте такие вещи уже не слишком интересуют, да и ты в свои девяносто, сдается мне, немного лукавишь.
На что Дед благодушно промолвил «ладно» и купил биографию Одри Хепберн.
Потом они исчезли месяца на два, и я уж начала волноваться, но тут начался ежегодный Книжный салон на Дворцовой, во время которого мы неделю разрываемся между стендом и магазином, скачем в мыле туда-сюда без выходных. Я как раз приехала в «Голос», чтобы взять там добавку книжек и всякой нужной мелочи вроде чековой ленты и пакетов, проскакала по залу, швыряя в две клеенчатые ашановские сумки все, без чего невозможно было обойтись, и уже было села в такси со своей горой добычи, как вдруг за спиной раздался драматичный хриплый вопль:
– А ну стой! Куда поперлась?!
Пришлось вылезать из машины и объяснять в двух словах, что такое Салон и что теперь Дед может несколько дней туда ходить и всех там терроризировать в свое удовольствие.
Подкрадываться со спины и внезапно вопить – в принципе его любимая фишка. Коллега Ира чуть не задохнулась, когда курила под аркой, стоя боком к тротуару, а Дед подполз так близко, что почти положил подбородок ей на плечо, и гаркнул в самое ухо:
– Что?! Накурилась?
После Салона зашел в какой-то тихий вторник, окинул взглядом пустой магазин:
– М-да. Мертвое царство. А вы, получается, здесь все еще трудитесь?
Как будто я за месяц, что мы не виделись, должна была куда-то исчезнуть.
– Нет, – говорю. – Пока не тружусь. Щас вот ноут достану – и как начну всерьез трудиться!
– А сколько стоил ваш ноут?
– Семнадцать. Ну так я еще в карантин его брала.
Повертел ноут, наклеечками полюбовался. Даже похвалил. Представила, как он находит какие-нибудь стикеры в шпионской эстетике и клеит на читалку. Вообще на что угодно ставлю, что у него читалка есть, и даже какая-нибудь навороченная.
Рада была, на самом деле, как родному. В перерыве между командировками не видела – уж боялась, что помер.
В следующий его визит случилось немыслимое: он признался, что подустал читать про шпионов. Впрочем, любовь-то гаснет, но угасла не совсем, и сейчас он все еще ищет что-то шпионское. Также вздыхал, что книги дорожают, и впервые ничего не купил.
В следующий раз явился опять с Супругой. Взглянул на постоянного посетителя Никиту, который старше нас с коллегой Сережей обоих, и выдал:
– О, а это ваш младший братик, да? Как у вас тут всё по-семейному! Дайте Казиника – и все-таки что-нибудь про шпионов!
Супруга бродила за ним, причитала, что книг у нас очень уж много, и поэтому нельзя было с Дедом сюда заходить, потакать его слабостям, и тут сделала внезапнейшую паузу, наткнувшись на наш зеленый диван, который до этого точно видела раз пятьдесят:
– О, диван поставили. Классно!
Видимо, приятно однажды порадоваться и давно знакомым вещам.
Тем временем Дед купил своего противного Казиника и «Друга государства» Яковлева, которая совсем не про шпионов, скорее про чудаков и первооткрывателей типа Шлимана, Нансена или там Жюля Верна. Еще раз (наверное, пятый) спросил мое имя. Очень заинтересовался «Частной армией Попски», которую Супруга, недослышав, сразу назвала «Черной армией», невзлюбила и причитала, дескать, не надо нам дома никакой черной армии. Ну и Дед украдкой пообещал зайти попозже, без Супруги.
Через пару дней действительно зашел и взял.
Удивительно, как примерно за полтора года, что я его вижу и одного, и с Супругой, у меня сгладилось раздражение от их шумных манер, не всегда уместных вопросов, шуток и всего остального, что может в людях бесить. Все потому, что они действительно покупают книги и даже, что еще более удивительно, честно читают все купленное. Диалога тоже вроде как не выходит – они никогда ничего не спрашивают о книгах, кроме того, есть ли они в наличии. Но если о чем-то рассказываю я, они могут это купить, без дополнительных вопросов ко мне, просто рассказала – взял – унес. Долгосрочные деловые отношения, близкие к идеальным.
А вы всё здесь прочитали?

Честный ответ, конечно же, очевиден: нет, не всё.
Но этот честный ответ ничего не объясняет, к сожалению. И даже хуже того – иногда подрывает доверие к продавцу. Мол, продает, а сам не читал. Как можно?
У меня почти никогда не хватало времени на то, чтобы объяснить, в чем дело, людям в живой непосредственной коммуникации, поэтому попробую рассказать здесь.
И начну, пожалуй, из глубины веков.
В детстве нам сильно не хватало книжек. Это были конец девяностых и ранние двухтысячные, вдобавок не город, а станица среди полей кукурузы и рисовых чеков. Спасибо, что есть аптека и хозмаг. Кто такой этот ваш литература? Поезжайте в Краснодар, там всё есть.
Поэтому маленькой мне на ночь читали то, что было дома, с картинками. Дома у команды иконописцев-реставраторов были альбомы с референсами (два моих любимых – «Русская икона от Андрея Рублева до Симона Ушакова» и «Иероним Босх»), да еще иллюстрированная «Песнь о Роланде». То, что ребенку может быть нужна отдельная литература, родителям не приходило в голову, и я их, кстати, хорошо понимаю. Сама детям читаю все подряд. В итоге… «Я Роланд!» – пугала полуторагодовалая Аленка бабушек в местной церкви. А бабушки всего лишь хотели знать, как зовут такую милую малышку.
Учиться читать по тому же Роланду было еще веселее:
Почуял граф, что смерть его близка,
Что мозг ушами начал вытекать.
Что за прелесть эти сказки! Я до сих пор считаю, что адаптация мифов и прочей древней эпической поэзии для детей не особо нужна. Что как раз эту другую логику повествования дети могут понять лучше взрослых. У меня в три года как раз не возникало вопросов, почему Роланд не мог уйти с поля боя навстречу Карлу и почему решил сломать Дюрандаль, лишь бы тот не достался маврам. Почему не спрятал. Спрятанное может найти не тот, кому надо, например. Абсолютно логично же. А почему рыцарь не ушел с поля, поймет любой, кто при падении с качельки сильно бился головой. Да и вообще мне одно время эпические герои были ближе современных знакомых. Как отец выдержал перечитывание Роланда вслух в течение четырех лет хотя бы раз в неделю, не знаю. Хотя я могла и заучить несколько больших кусков, чтобы читать их себе наизусть, причиняя мелкие и крупные домашние разрушения, пока взрослые занимались своей скучной работой. Не помню. Даже не помню, читали ли мне что-то еще. Все мое воображение занимали только Роланд, его верный друг Оливье, коварный Ганелон, Марсилий Сарагосский, который был близок кубанскому ребенку хотя бы тем, что тоже искал, где бы спрятаться от невыносимой жары, король Карл и прочие занятные персонажи вроде мавра Бланкандрена. Дикий хохот родителей, сопровождавший, кажется, все разы, когда я оплакивала смерть Оливье, меня тогда бесил, а сейчас я рада, что могу их понять. Хотя сама бы попыталась ржать не при ребенке.
Потом бабушка и дедушка как-то спохватились и привезли шестилетней мне однотомник Киплинга с черно-белыми иллюстрациями. Это было абсолютное счастье. Самый любимый эпизод – как деревню пожирают джунгли и от домов к следующему сезону остается кучка глины. Сейчас эти ощущения доступны всем взрослым, которые покупают книги издательства Ad Marginem, и я не стесняюсь использовать этот свой детский восторг от того, как природа разрушает цивилизацию, рекламируя те же самые «Инсектопедию», «Как мыслят леса» и «Жизнь в пограничном слое». Да, в этих книжках ничего вот прямо не разрушается, кроме человеческой психики от встречи с пауком в ванной, но следите за руками. Мне надо рассказать про мох. Сам по себе мох – не особо интересная штука. Или нет. Безусловно, интересная, но не мгновенно и не с первого взгляда. Заинтересованности во мхах должна предшествовать какая-нибудь внутренняя работа. И вот человек берет в руки книжку. Сам не знает почему. Может, у него осталось пять минут до приезда такси и надо чем-то занять руки, но не зачитаться. От маленькой серенькой книжечки не ждешь подвоха. Но сзади подкрадывается консультант, и глаза его отблескивают зеленым.
– А вы зна-аете, почему в торфе все так хорошо хранится? Вот лес все перерабатывает, а болото, наоборот, собирает сувенирчики на память.
Завязывается разговор, как бы подсвеченный изнутри этим детским интересом – посмотреть, что останется от человеческих следов в среде-без-человека, и вот завороженный примат уже идет на кассу с книжкой. Ну или испуганно кивает, садится в свое такси и уезжает, чтобы еще неделю видеть кошмары, похожие на сон героя из «Легенды о Зеленом рыцаре». Или он такой же чокнутый, и такси отменяется ради мини-конгресса рептилоидов, то есть получасовой беседы о разнообразном умирании и экологичной переработке останков.
К моим шести годам в семье было три ребенка, поэтому после Киплинга как-то сами собой завелись Андерсен, Пушкин, «Эмиль из Леннеберги» (даже раньше «Карлсона») и прочие радости позднесоветского ребенка. Какого позднесоветского, когда двухтысячные на дворе? А все просто. Детская литература до жути консервативна. И практика чтения детям вслух в не слишком обеспеченных семьях одна и та же: какой-нибудь необходимый минимум типа Чуковского и Барто на все четыре новогодних утренника от трех до семи лет, «Буратино», «Колобок», «Три поросенка» и «Карлсон», если повезет. А дальше читай сам, а лучше мультики смотри. Потому что родители работают, им некогда и не на что искать и читать разное и сложное.
Но это лишь общая тенденция, нестрогое правило большинства, из которого бывают занятные исключения. О них потом.
Главное – мне не хватало книг, а телевизора в доме не было принципиально. В школе, естественно, я стала «девочкой, которая прочла всю библиотеку». Проблема в том, что и школьные, и сельские библиотеки мне попадались бедные. Если не сказать отвратительные.
Сейчас я понимаю, что выросла бы человеком, попадись мне на пути хоть один осмысленный книжный консультант. Но ни учителя литературы, ни библиотекаря, который попытался бы поговорить и выяснить, что этому угрюмому зверенышу надо, не нашлось. Поэтому меня мотало от «Литпамятников» до Толкина, которого я в тринадцать лет любила, но стыдной, под-одеяльной любовью, потому что считала литературой низкой, развлекательной. Сейчас пишу – и аж тошно. Как же хорошо, что я сожгла свои дневники тех лет и не смогу перечитать. Так бы и пристукнула это мелкое снобское создание.
Был ли у меня при этом какой-то аппарат анализа, попытки разобраться, почему текст именно такой, что-то осмысленное в практиках чтения? Не-а. Неоткуда было взять.
Да и потребности не возникало. Казалось, нужно всего лишь прочесть насквозь всю классику и вуаля – станешь культурным человеком.
К пятнадцати годам прошло. Меня как-то незаметно развернуло от всего, что престижно, к тому, что нравится, и в результате к шестнадцати у меня уже был первый в жизни собеседник не из членов семьи, с которым можно было поговорить о литературе, и первая подработка рецензенткой, неоплачиваемая и абсолютно богопротивная. Я читала графоманскую сетевую поэзию и подробно, вежливо разбирала, почему она плоха. Это отнимало время, которое нужно было на Гессе, «Гарри Поттера» и современную поэзию, не доставлявшую мучений: Бахыта Кенжеева, Дану Сидерос, Сергея Калугина и Высоцкого, которого я записала в современники по той причине, что он умер, когда мама уже ходила в школу. Считай, вчера. Считай, немного разминулись.
А презирала я тогда местных графоманов за графоманство и неумение выдерживать даже простые стихотворные ритмы, а Полозкову и Бродского – за попсовость. Как видите, все еще никакой системы чтения, никакого понимания, что любое художественное произведение существует в контексте, никогда не само по себе. Ну и, конечно же, изрядная доза высокомерия. Сейчас снобизм собеседника для меня работает как своего рода лакмусовая бумажка: если я от него прихожу в ярость – пора перекусить. Заработалась. Если не прихожу – что ж, все в порядке, я сыта и благодушна, не будем говорить о российском фэнтези, поговорим о Хайдеггере, не вопрос.
Поступила я в итоге на филфак, который мне не был нужен, потому что – следите за мыслью – истинная поэзия не поддается переводу, а читать и говорить на родном языке может каждый. Так что филолог – человек бесполезный, переводчик лучше. Когда я не прошла на японский перевод (три бюджетных места), но прошла на отечественную филологию (сорок мест), то окончательно уверилась, что все квесты провалены, а будущее меня ждет самое склизкое и занюханное, ибо я пошла по пути наименьшего сопротивления и выбрала то, что не потребует больших усилий. Дети из деревни без репетиторов обычно не попадают в СПбГУ, но я тогда этого не знала и не могла даже порадоваться тому, что мне повезло. Некоторое время я оплакивала свою неслучившуюся блестящую будущность переводчика-синхрониста и в итоге пришла к спасительной мысли, что амбиции не главное. Пока есть красота мира вокруг и какая-никакая крыша над головой, жизнь продолжается. Можно существовать без особой цели, тихо радуясь свету через облака и красоте города вокруг. А если вдруг красота иссякнет, всегда можно прыгнуть с моста. Не будьте невротичными отличниками, короче.
Тем временем жить на стипендию оказалось невозможно, profi.ru требовал от репетиторов закончить первый курс и предоставить документы, а объявлений «требуется уборщица» поблизости от общаги не висело. Почему я, дитя компьютерного века, не умела гуглить вакансии? Потому что дома не было компьютера, а смартфон у меня появился в середине десятого класса. И да, я корила себя разом за то, что не умею быстро печатать, и за то, что в принципе не особенно разбираюсь во всех этих компьютерных делах. Короче, я оказалась даже не способна понять, что действительно умею, не то что распорядиться навыками. И снова решила плыть по течению, а именно – пошла в книжный. Обошла три-четыре «Буквоеда», спросила о вакансиях, получила направление в офис на Минеральной улице, побегала по промзоне, высидела очередь, заполнила пару анкет, прошла устное интервью – и получила решительный отказ. Спустя годы я поняла, что на собеседовании не нужно было говорить фразу: «Я учусь очно в СПбГУ и собираюсь по ночам работать, а днем учиться». Но, увы, тогда сказался недостаток опыта.
Что ж, на пять тысяч рублей в месяц в 2016 году оказалось вполне можно выжить, если выполнять мелкие поручения для соседей по общаге и переводить английские статьи. Со мной жили магистры энтомологии, так что я еще пару лет после той зимы могла поддержать на английском разговор о достоинствах тлей и бабочек-со́вок. И все еще считала себя глупой и бесполезной.
Тем временем в университете шли два интересных параллельных процесса. Один – заваливание информацией. Чтобы прочесть необходимый минимум к семинарам, я сидела после пар часов по восемь, потому что навыка проглядывать по верхам, выделяя главное, у меня не было. Точнее, я не могла себя заставить им воспользоваться, потому что это казалось ненаучным жульничеством. Второй процесс был куда приятнее. Мы наконец-то учились разбирать текст вне зависимости от его качества: находить значимые повторы и умолчания, складывать из ошибок и штампов речевой портрет, ловить особенности стиля. Я купила себе дешевого Бродского на газетке и черную ручку, потому что быстро обнаружила, как соскальзывает внимание с его сложных конструкций. Я перечитывала строфу и думала, как ее проиллюстрировать, а когда цеплялась за какой-нибудь образ и начинала рисовать, стихотворение от многократного повторения распускалось на ниточки и становилось чуть понятнее.
А вот читательский кругозор шире не становился. Филфак не открыл мне новую литературу: он дал инструменты для анализа уже знакомой. Ничего нового, невероятно интересного и восхитительного не появилось. Зато волшебным образом закончилось время на неученое чтение типа современного фэнтези, на котором я плотно сидела с десятого класса.
Обычно люди, читающие «только серьезную литературу», «только научные труды», «только признанную классику», относятся к развлекательному чтению как к сладкому посреди диеты. Малые количества – ну, иногда можно. Большие – о господи, где моя сила воли, я становлюсь частью примитивной массы, мозг разлагается, помогите. Почему же я с одинаковым энтузиазмом ныряла в манновского «Фаустуса» и в «Отблески Этерны»? Потому что само чтение как практика было для меня видом эскапизма. Не важно, что именно читать, – само это занятие чуточку маргинальное. Вот бабушки иногда думают, что внучки целый день за компом сидят для развлечения и гоняют их «заняться настоящим делом». А есть еще более древний вид того же самого поведенческого механизма: «Хватит читать, займись делом». В нашей деревне быть книгочеем – значит быть странным. Ты ничего материального, ничего зримого не производишь – стало быть, маешься дурью. Пойди вон сено повороши, курям корму задай. Шевелись, как все шевелятся.
Поэтому главное было – отстоять само свое право читать. Я его отстояла, когда начала занимать всякие места на школьных олимпиадах и восхищать этим учителей. Так человек из бесполезных дурачков становится «наш умненький, далеко пойдет». От него после окончания учебы ждут, чтобы он либо уехал далеко и попал в телевизор, либо вернулся учителем. А сам он тем временем с важным видом может почитывать романы про попаданцев. Или зазубривать школьную программу в надежде сдать ЕГЭ на сто баллов.
Людей, которые бы ощутимо влияли на изменение читательских практик, вокруг не было. Я не утрирую: за годы переездов из школы в школу мне попалась одна учительница литературы, которая действительно читала не только методические рекомендации к урокам и действительно имела силы обсуждать прочитанное со всякими вредными подростками вроде меня. Что? Да, оказывается, учитель литературы, который не читает ничего, кроме школьной программы, работ своих учеников и всяких обязательных документов, – скорее правило, чем исключение. В конце концов, за дверями школы у них есть мужья, дети и скотина.
В своей деревне мне очень легко было быть начитанной. А в городе я пришла в ужас: сверстники читали, допустим, книги по философии, а я остановилась на Аристотеле. Какой Мамардашвили, какая Ханна Арендт? Помилуйте! Один огромный пробел. Второй пробел – Довлатов, Ерофеев, Соколов, Лимонов и прочие почти современники, которых решительно все уже прочли, обсудили и уложили в свой опыт, а я только вчера узнала по именам. Третий пробел – нормальное искусствоведение. Тут уж вообще можно за голову схватиться и помереть: ничего не знаю. И четвертое, самое безумное. Увлеченному читателю фэнтези я тоже ничего нового не посоветую, потому что, пока он следил за актуальными новинками, я лихорадочно пыталась понять каких-то заумников и упустила кучу трендов и даже кучу книг, которые стали классикой жанра.
Где бы найти время и, самое главное, наставника, который вправил бы мне кругозор, как вывихнутую конечность, укрепил бы самые жуткие пробелы какими-нибудь обязательными штырями и в целом сформировал из меня что-то гармоничное? Кажется, таких мест сейчас особо нет, надо как-то интуитивно искать какой-нибудь филфак, а уже попав внутрь, строить там подходящую среду из всего сразу: однокурсников, преподавателей, местной библиотеки и дополнительных активностей. Почему это не получается в магазине? Потому что коллеги – взрослые люди со своим кругозором и своими вызовами, которые заняты собственными делами и не могут быть ни наставниками, ни даже соучениками, а контакты с посетителями, пусть и с постоянными, непредсказуемы и эпизодичны. Хорошим выходом было бы купить место в каком-нибудь пафосном книжном клубе у хорошего литкритика, но на это нужно иметь деньги. Решительно все мешает взять себя в руки и составить осмысленный план чтения.
И вот наконец-то можно начать отвечать на вопрос: «А вы всё здесь прочитали?»
Нет. Чтобы продавать книги, не обязательно их читать. Непосредственное восприятие текста дает меньше, чем принято думать. Больше всего мне помогают хорошо сделанные карточки товаров на маркетплейсах и любые формы литературной критики – от комментариев в тех же карточках до статей в толстых журналах. Все необходимое мне-продавцу я могу узнать до выхода книги. Чтение иногда даже опасно для продажи: иной раз после знакомства с книгой, наоборот, перестаешь ее рекомендовать, потому что не в силах справиться с отвращением. Кроме того, о прочитанном часто рассказываешь так долго, что человек пугается и убегает. Лучше всего утащить из чьего-нибудь отзыва пару-тройку броских фраз и завлекать ими.
Но это работало бы в идеальном мире, где все редакторы пишут меткие, емкие аннотации, а пиарщики не тырят формулировки друг у друга, плодя совершенно одинаковые пресс-релизы, те перемещаются в совершенно одинаковые статьи журналистов, которым за обзоры либо вообще не платят, либо платят копейки, так что они не имеют ни сил, ни возможности прочесть книги, о которых говорят, и чисто от отчаяния приходится иногда пролистать книгу, чтобы зацепиться за пару броских эпизодов и добыть из них вещество для подогрева интереса.
Здесь мне становится стыдно перед коллегами. Многие из них – да все! – читают больше и быстрее, делают заметки, делятся прочитанным… В общем, ведут себя как нормальные книжники, влюбленные в свое занятие.
Но в книжном главное – люди. Вот парадокс, правда? Сколько ни прочтешь, это может оказаться бесполезным, если не умеешь общаться.
«Вы всё здесь прочитали?» – хороший вопрос. Он приковывает к продавцу внимание. Здесь главное – удержать эту ниточку интереса и завести туда, куда вам обоим выгодно.
– Вы всё здесь прочитали?
– Да, и лучшая книга – вот эта.
– Почему?
– Потому что я люблю неординарных персонажей с интересными занятиями. А тут главный герой – слепец с синестезией.
– Ой, только не инвалиды. Мне «Дома, в котором» хватило!
– Ладно. А как вам девица – дизайнер-типограф? Одержимая совершенством формы, мечтающая создать идеальный шрифт? Хотите знать, почему она отказалась набирать свою книгу на компьютере и пишет ручкой покойной бабушки?
– О, люблю семейные саги. А кто автор?
– Норвежский богослов. Делает магический реализм из своих религиоведческих знаний, отлично и глубоко получается.
– Не куплю.
– А что купите?
– Все, о чем вы рассказали, на «Озоне» со скидками.
Но не все так мрачно и безысходно, иначе откуда бы мы брали силы продолжать работу? Бывает и ровно наоборот.
В восемь вечера звонит рабочий телефон. Голос мужской, смутно знакомый:
– Добрый вечер, а есть книга Демишкевич… «Под водой» или как-то так?..
– Да, есть, «Под рекой»!
– Я еду из Москвы поездом, въехал в область уже, на Московском вокзале сразу прыгну в такси и буду у вас ну без нескольких минут десять. Отложите, пожалуйста!
Вбежал без десяти десять, встрепанный и вымотанный одновременно. Наша Наденька, знаток человеков, в прошлом мастер чайной церемонии, немедленно предложила ему кофе и передышку, а он и не отказался. Режиссер-документалист, уже не в первый раз у нас закупавшийся современной прозой, по моей же рекомендации в прошлый приезд зацепил первую книгу Демишкевич и в поезде настолько проникся, что немедленно захотел вторую.
Срочно дайте идеальную книгу!

К сожалению, Бог умер и Библия перестала быть главным источником ответов на все вопросы. Вдобавок, уже лично к моему величайшему горю, главных и обязательных книг сейчас еще и больше сотни. Это приводит к жуткому постоянному недопониманию, особенно в мире детского чтения. Со взрослым еще можно договориться, найти компромисс. С ребенком сложнее, но тоже можно. С кем нельзя – так это со взрослым, который ищет книгу для ребенка, не взяв при этом самого ребенка с собой.