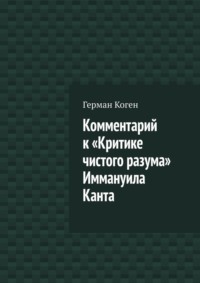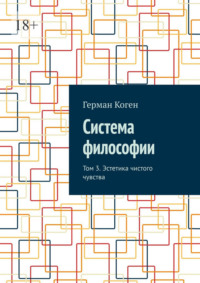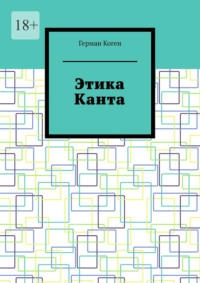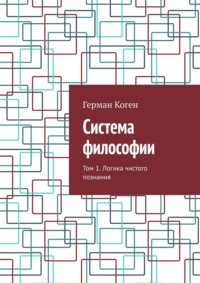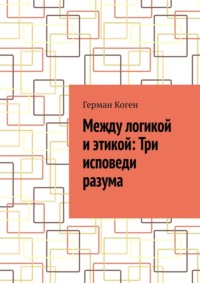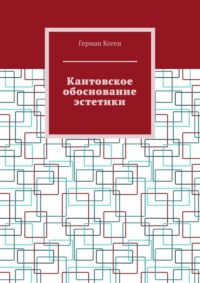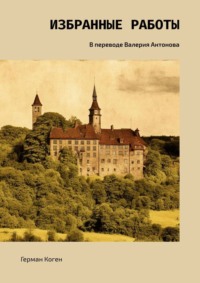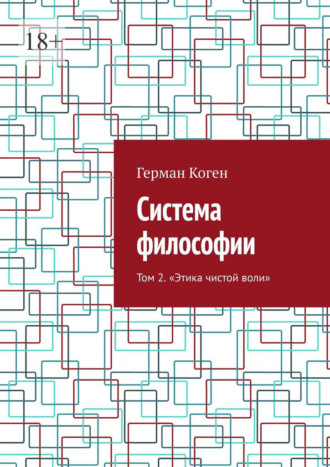
Полная версия
Система философии. Том 2. Этика чистой воли
Мы сейчас не собираемся окончательно обсуждать методологическую ценность социологии; мы далеки от того, чтобы оспаривать её пользу. Однако её отношение к этике остается под вопросом, и мы считаем, что она не может служить предпосылкой для этики. Этому противоречит её основной методологический концепт – развитие.
История биологического развития предполагает точное знание готового организма. Эмбриология ориентируется не на общее, расплывчатое представление о нормальном организме, а на целостный организм и каждый его орган в их физиологической нормальности, которые составляют точный предмет исследования. Но существует ли аналог такого точного организма в социальном организме и его социальных органах? Не является ли это применение скорее метафорой, которая остаётся хромым сравнением?
Уже отношение органов к организму здесь нарушается. Отдельные социальные институты можно, пожалуй, рассматривать как социальные органы, но называть их социальными организмами уже сомнительно. Ведь организм – это единство органов. Но где это единство в отдельных социальных институтах? И где существует единство для них всех, чтобы можно было перенести понятие организма на это единство целого? Разве государство образует это единство? Конечно, это было бы его задачей, но выполняет ли он её? И не возникает ли, именно потому что он её не выполняет, корректирующая точка зрения общества, чтобы скептицизм и нигилизм анархизма не получили распространения?
Таким образом, обнаруживается противоречие в задаче социологии, которое может быть устранено правильным определением её отношения к этике; без этого её проблема остаётся неопределённой и неточной. Социология движима мыслью, что культурные образования не являются замкнутыми субстанциями абсолютной ценности, и использует точку зрения развития, чтобы вскрыть грубые зачатки, из которых они произрастают. В целом это может казаться допустимым: самые дикие формы и правила спаривания, если они всё же являются правилами парования, могут рассматриваться как элементарные формы моногамии, и то же можно предположить о простейших установлениях наследственного права и собственности. Однако дальше общих, а потому неточных аналогий здесь продвинуться не удастся. Всегда придётся учитывать идеи и идеальные чувства, которые, хотя и тонко, но тем точнее отличают высшие ступени от низших, так что элементарное образование неизбежно усложняется.
Видно, что противоречие усиливается до двойственного. Исходят из того, чтобы отвергнуть готовое образование как замкнутое. Но этому противоречит научное понятие развития, которое, напротив, предполагает нормальное оформление организма в качестве методологической предпосылки. Однако здесь как раз ставится под сомнение и оспаривается такая нормальность, причём в двойном смысле нормы: как функциональная правильность и как образец и пример. Скорее, хотят показать, что якобы завершённые социальные образования нашей высокомерной культуры всё ещё находятся в зачаточном состоянии. Если в этом заключается благотворный смысл данного направления исследований, то оно должно осознать, что ему не хватает нормы, которую научная методология развития предполагает точно и ясно.
Поскольку социология, несмотря на эти методологические изъяны, работая с общими историческими точками зрения, даёт ясные результаты и просветляющие идеи, возникает двойное противоречие: второе пытается исправить первое. А именно, мысли и чувства, которые, как, например, в случае брака и собственности, влияют на более высокие позднейшие формы, уже неизбежно учитываются в низших формах, и тем самым всё же предполагается некий вид нормального образования, который становится предметом развития.
В этом предвосхищении корректируется не только методология социологии как методология развития, но и меняется вся её направленность. Она больше не может быть направлена против индивидов, чтобы растворить их в массах, ибо она нуждается и использует этих индивидов в их нравственных мыслях и чувствах. Или разве могут быть мысли и чувства без индивидов? Она также не может быть направлена против идей, чтобы заменить их институтами, ибо в самих этих институтах она уже заранее предполагает идеи. Она не может поддерживать противопоставление, а тем более противоречие между ними. Неверно, что идеи – это испарённые институты; скорее, институты – это застывшие идеи.
Таким образом, выясняется, что противоречие, от которого страдает социология, может быть устранено корректировкой её отношения к этике. Она не является предпосылкой этики; напротив, этика молчаливо служит предпосылкой социологии и социального развития. Однако этика образует эту предпосылку не как часть философской системы, а как условную связь нравственных мыслей. Теперь важно заменить эту благонамеренную фикцию этикой в её систематическом виде – при условии логики и всё же как этику чистого воления, с собственным содержанием и собственной методологией: после, но рядом; рядом, но после логики чистого познания. Логика остаётся предпосылкой, но указывает на этику. И история любого рода, хотя и предполагает в первую очередь логику, но, помимо этой общей формальной основы, черпает содержание своих понятий не из психологии, а исключительно и фундаментально из этики.
Однако разбор понятия развития требует ещё одного дополнения с центральной философской стороны. Мы снова возвращаемся здесь к метафизике, но в её классических формах, проходящих через мировую историю философской мысли. Точка зрения развития господствует в ходе мысли Гегеля. Диалектическое движение есть не что иное, как развитие, и при этом готовое образование предполагается слишком явно. Уже Шеллинг руководствовался развитием; его потенции – не что иное, как ступени развития. Этот всепроникающий взгляд, возможно, немало способствовал тому, чтобы философия романтизма казалась трезвее и современнее-реалистичнее, чем она выглядела бы в своей абстрактной символике. Гегель, в частности, настолько глубоко вдохновил и обогатил исторические исследования во всех направлениях, что его диалектическое движение можно было счесть прообразом и предварительным наброском исторического исследования. Кроме того, диалектическое движение оживило точку зрения развития для всей системы философии. Остаётся лишь вопрос, стала ли при этом система философии живой во всех своих частях или же некоторые из них оказались убиты. Как обстоит дело с этикой?
Мы уже обращали внимание на то, что Гегель не написал отдельной этики, так же как и Сендлинг.
Ведь и Спиноза написал лишь одну этику, в которой содержится логика или метафизика.
Таким образом, и гегелевская логика должна была бы содержать этику.
Идея, именуемая понятием в его высшем совершенстве, развивается как Абсолют.
И этот Абсолют означает нравственность в её высших формах.
Известно, как школы в этом пункте расходились в крайние противоположности.
Религия – одна из таких форм Абсолюта; но гегельянцы занимали самые противоположные и враждебные позиции в отношении проблемы религии.
Государство прежде всего является такой формой Абсолюта; но гегельянцы разделились на политических реакционеров и революционеров.
Точка зрения развития при этом не проявила себя как однозначный руководящий принцип.
Можно было бы подумать, что развитие было слишком непосредственно перенесено на конкретные учреждения и отношения истории – на религию, право и историю вообще, равно как и, с другой стороны, на искусство.
Безусловно, в этом самом по себе впечатляющем, но неопосредованном применении диалектической методики кроется очевидный источник ошибок; однако подлинная причина ошибки этим ещё не названа.
Она заключается скорее в пантеистическом центре системы: в сосредоточении системы философии и всего бытия в природе.
При этом не может и не должно быть никакого должного, которое отличалось бы от сущего.
Идея не равна должному, тогда как понятие равно сущему; но идея есть лишь развитие понятия; следовательно, она остаётся центром бытия, которое одновременно включает в себя и должное.
Таким образом, то, что в ином случае является этикой, становится продуктом развития логики.
Deus sive Natura (Бог или Природа). На этом всё и остаётся.
И это есть и остаётся коренной ошибкой всякого пантеизма, а значит, и философии тождества.
Не говорится: Natura, neenon Deus (Природа, но не Бог), если вообще допустимо использовать это выражение для проблемы нравственного, ради противопоставления.
В этом состоит натурализм диалектического развития.
Идея выступает как природная сила; ведь она есть категория бытия.
И как природная сила она предстаёт и перед историческим интересом, который сам по себе одновременно является спекулятивным, поскольку развитие, диалектическое движение не просто объединяет оба интереса, но попросту отождествляет их.
Поэтому здесь на место этики встаёт вся догматическая метафизика, только в современном историческом облачении.
Разворачивается судьба человека и мира:
никто не спрашивает, выпадает ли человеку особая роль перед лицом судьбы, причём двойная – не только роль действующего (при этом вновь может возникнуть вопрос, не является ли он ведомым), но и роль знающего.
Однако этот знающий должен задаваться вопросами, выходящими за пределы его судьбы.
Не она интересует его в первую очередь и не она лежит в основе его интереса, а способ, смысл и право этой его роли как действующего.
Таким образом, противопоставление метафизике приводит нас к противопоставлению мифологии и мифологической религии.
Мифология движима страхом индивида – не столько перед его грехом, сколько перед его судьбой, в лучшем случае как следствием его греха.
Но всегда остаётся вопрос о существовании индивида – будет ли у него конец; и что с ним станет после этого конца, так чтобы конец на самом деле не был концом.
Немногим лучше обстоит дело на золотой оборотной стороне, когда блаженный конец бесконечен и индивид может вечно наслаждаться своим возвышенным существованием.
В этой мифологии индивида искусство сыграло значительную роль, и мифологическая первосила религии была им так же подпитываема, как и своеволие метафизики укреплялось той трансцендентностью.
Судьба стала, как в драматической поэзии, не просто тёмной силой, от которой нельзя убежать; но все вопросы о сущности человека были сведены к этому внешнему источнику.
В этом заключается безнравственность той идеи судьбы.
И сама драма противостоит мифу, делая героя, конечно, страдающим, но не в меньшей степени и действующим.
Он действует в своём страдании, в котором подчинён судьбе, но одновременно – как бы по собственной воле – против этой судьбы.
Конечно, и в религии пробуждается деятельная сила человека.
В христианстве грех человека не должен быть лишь первородным грехом, грехом Адама;
но способность к добру и злу предполагается для действий человека.
И если, конечно, для доброго направления условием ставится вера во Христа, то её, как мы уже видели, можно истолковать как веру в идеального человека.
Но связь с мифом остаётся и здесь: в конечном счёте, речь всегда идёт о судьбе индивида, о его вечном спасении или вечном проклятии.
Таким образом, препятствием для этики является не только понятие индивида, которое своей односторонностью и внутренней незрелостью повсюду мешает самостоятельности этики; но именно интерес к судьбе, который полностью противоречит этике, принадлежит мифу и остаётся религии лишь постольку, поскольку она застревает в мифологии.
Судьба – это пара хаосу.
Этим также проясняется противопоставление между теоретическим и практическим разумом.
То, что необходимо различать два вида интереса, не подлежит сомнению; это и означает различие между сущим и должным.
Один – это теоретический интерес к бытию природы; другой – практический интерес, интерес к действию и воле.
Но и последний тоже является интересом разума, а значит, и своего рода теоретическим интересом.
Здесь-то различие между волей и интеллектом всегда становится скользким.
Теперь же мы видим, в чём суть.
Конечно, проблема этики должна означать и знание, строгое, точное познание; иначе воля не могла бы быть чистой волей; как нам предстоит рассмотреть позже.
Но этот интерес практического разума направлен на познание этой чистой воли и исходящего от неё действия.
Посредством этой воли и этого действия понятие человека должно прийти к определению.
Именно о понятии человека, поскольку оно основано в его воле и действии, должна идти речь в этике; но не о судьбе индивида.
Последнее остаётся теоретическим вопросом, а именно вопросом мифологического любопытства, которое может соединяться с искусством и даже с религией; но сейчас этот вопрос вообще не стоит на обсуждении.
И его нельзя смешивать с проблемой этики.
У этики есть другие теоретические интересы, которые всегда должны быть направлены исключительно на волю и действие; но они неизбежно чахнут, когда связываются с судьбой индивида.
Отсюда также становится яснее противопоставление между верой и знанием, которое утверждается и обновляется в многообразных вариациях.
Не будем здесь рассматривать то основное настроение, которое относит веру к священным книгам, даже если оно основывает на них предписания для воли.
Вера в книгу – это скорее знание, независимо от того, какие учения извлекаются из этой книги.
И даже если на место Евангелия ставится сам Христос, то и он становится источником и гарантией знания, хотя его и называют переживанием.
Насколько вся эта антитеза связана с корреляцией к знанию, видно по повсюду встречающемуся ограничению, налагаемому и пытаемому на знание.
Знание якобы может иметь дело только с естественным человеком, как и с природой вообще; нравственное же ему недоступно и чуждо.
Так урезается интерес разума к нравственному, оспаривается теория этики.
Но если отвергается философия этики, чем тогда солить?
Таким образом, приходится к неизбежному выводу, что вера, противопоставляемая знанию, должна противоречить разуму и его теоретическим интересам и бросать им вызов.
Теперь вера должна быть высшего и совершенно иного рода и давать совершенно иную уверенность, чем та, что возможна для знания.
Конечно, это совершенно иной вид знания, который составляет интерес веры: это судьба индивида, вокруг которой всё в ней вращается.
Хотя при этом, как нельзя не признать, учитывается и то, что человек делает и совершает, но это не составляет главного, не говоря уже о том, чтобы быть собственно единственным предметом, о котором идёт речь.
Если бы это было так, то не стали бы удерживать и постоянно переиначивать противопоставление знанию, чтобы можно было приписать вере высший и иной вид уверенности.
Таким образом, остаётся, что вера должна образовывать и укреплять противопоставление этике как части философской системы.
И этому противоречию потворствует метафизика, которая, апеллируя к вере, говорит якобы философское слово; тем самым возможность этики уничтожается.
Существует еще одна опасность, которая во все времена угрожала этике в ее научном характере и которая вновь появилась в последнее время. Она заключается в тенденции так называемой этической культуры. Конечно, можно проявить симпатию к стремлению, которое в это время, взбудораженное смятением человеческих чувств и экономической алчностью, держит высоко нравственное знамя, чтобы собрать вокруг себя людей любого вероисповедания и любого происхождения и объединить их под собой. Но это непосредственное чувство уже для политики не является надежным ориентиром; философия этики не должна позволять ему сбивать себя с толку. Софистика тоже далеко не всегда была безнравственной – ни в своих учителях, ни в своих учениях. Однако Сократ все же нанес ей удар по голове, провозгласив миру тезис: добродетель есть знание. Но это знание одновременно означает познание. А это познание есть философия, систематическая философия.
Против философии и ее этики направлено утверждение культуры. Как будто важно лишь упражнение и воспитание нравственности, а не прежде всего познание. Это могло бы показаться безобидным заблуждением, хотя софисты утверждали, что добродетель есть дело дел и что она не нуждается в логических основаниях. Философия уже в силу этого имела бы обоснованный предметный интерес в том, чтобы сопротивляться умалению, которое тем самым навязывается системе философии. Но недостаток этой мысли можно ощутить еще более явно.
Ограничивая нравственную проблему культурой, мы питаем предрассудок, будто нравственность есть нечто само собой разумеющееся, о чем, собственно, не может быть сомнений, о чем лишь философия и, возможно, религия будят скепсис. И тут же на помощь приходят все неясные и двусмысленные лозунги этого призыва: что нравственное врождено; что человек добр, а именно индивид; что лишь множественность людей делает его плохим. Во всех этих человеколюбивых воззрениях, которые вновь и вновь в различных оттенках проносятся через все эпохи, повторяется одна и та же основная ошибка: человек мыслится в своей психологической природе. Поэтому сопротивляются философии или, как выражаются менее предосудительно, метафизике, потому что иначе пришлось бы начинать с логики, тогда как с психологией, как полагают, удобнее справляться.
Но, отправляясь так или иначе от психологии, мы попадаем в трудности, которые оттуда возникают для индивида и в равной мере для воли. И потому вряд ли поможет, если, с другой стороны, поднять социальное знамя, чтобы управлять односторонностью индивида и импульсивным империализмом его воли. При этом не может произойти примирения противоположностей; ибо там, где природа нравственного предполагается и считается само собой разумеющейся в природе человека, остается лишь мнимая корреляция индивида и множественности или особенности, которая, как мы знаем, не является ни правильной, ни исчерпывающей корреляцией. Тут с самого начала не ставится проблема найти в тотальности правильный член корреляции.
Если бы это понимание существовало, то никогда нельзя было бы подвергать сомнению, что этическая культура должна основываться гораздо скорее на культуре этики. Ибо исследовать значения этой тотальности в истории культуры и проверять их на нравственное содержание – это в высшей степени теоретическая задача, в определении и освещении которой, равно как и в ее разработке и осуществлении, ценность этики должна быть признана с уверенностью. Этическая культура уводит от этой проблемы тотальности, потому что самоочевидность нравственного зависит от индивида.
Но тем самым мы приходим к еще более серьезной ошибке в этой мысли. Уводя от тотальности в исходном пункте, она одновременно уводит от связи проблем, в которой находится нравственное и в которой только и должно рассматриваться. Государство представляет эту связь. Поэтому в принципе лишь в политических движениях нравственное может подвергаться практической культуре. Если оно отрывается от этой связи, то остается в сфере, против которой, собственно, и направлено сопротивление.
Этическая культура хочет противостоять религии, чтобы устранить исключительность, которой та подвержена. Она последовательна и в том, чтобы противодействовать односторонностям политики; однако при этом она выходит за пределы поля политической борьбы. Поэтому она неизбежно сбивается на боковую тропу религиозной секты. Всякий раз, когда нравственность становится проблемой вне политики, там, несмотря на всю враждебность к религиозной догматике, неизбежен тупик религиозного conventicula (собрания).
Но здесь совершается и роковая ошибка против религии, которая глубоко затрагивает отношение этики к религии. То, что религия как вера есть скорее знание и что это знание направлено на судьбу человека, мы уже рассмотрели. Этика же, напротив, направлена на понятие человека, поскольку оно может быть выведено из его воли и его действия. Различие это существенно; но удовлетворяет ли его содержание в полной мере?
Неужели судьба человека – лишь мифологический предварительный вопрос культуры, который тем же путем разрешает и вопрос о судьбе мира? Не следует ли скорее признать за религией характер знания, если она сделала эти вопросы, хотя они уже волновали миф, своими вопросами, даже если она не способна их разрешить? Безусловно, не только интерес угольщика, верующего в Бога, направлен на вопрос «откуда» и «куда» мира и человека. Сказать «non liquet» (не ясно) имеет оправданный смысл лишь после долгого исследования. Но это симптом большой внутренней близорукости – полагать, что можно отсечь интерес к этим вопросам и объявить их тщетными. Ведь гораздо скорее в этих примитивных вопросах уже проявляется чувство внутренней связи всего сущего. Мир не должен начинаться со мной и не должен мной заканчиваться. Потому и я сам не должен заканчиваться. Однако важно лишь, и это главный вопрос: кто и что я сам есть. И таким образом, вновь понятие индивида составляет проблему.
Следовательно, не может быть так, чтобы этика вовсе не занималась этими вопросами; ведь они содержатся в проблеме индивида. Этика лишь не должна непосредственно направляться к этому выражению проблемы; скорее, на своем пути она должна овладеть средствами, чтобы прийти туда, где миф и религия терпят крушение и остаются на мели.
Вопрос «откуда» этика ставит себе, отправляясь от логики. Мы должны будем это рассмотреть. А вопрос «куда» образует заключительный вопрос этики, без которого она не достигла бы своего завершения.
Таким образом, отношение между этикой и религией нельзя представлять себе так, будто этика отбрасывает те вопросы религии как детские вопросы человечества; скорее, следует понимать, что этика берет на себя те вопросы, решение которых должно оставаться недоступным религии, потому что ей не хватает методологических средств для их разработки, – и отнюдь не в смирении, что она должна при этом остановиться на «non liquet». Перенос вопросов «откуда» и «куда» она должна сделать своей задачей. Эти вопросы, безусловно, принадлежат к понятию человека.
Поэтому и этика займет иное положение по отношению к религии, чем то, которое представляется этической культуре и всякого рода настроениям времени, обходящим религию стороной. Основное заблуждение всех этих направлений состоит в том, что нравственное есть нечто естественное и, следовательно, само собой разумеющееся. Философия здесь уже излишня; религия же, напротив, абсолютное зло. Здесь мы хотим остановиться лишь на последнем пункте, хотя, конечно, придется затронуть и первый.
Нравственное должно быть естественным, то есть врожденным человеку, как все его влечения.
Ведь за пределы влечений здесь, пожалуй, выходить нельзя. В том лагере мышление и познание не считаются врожденными, а только чувствование и восприятие, из которых, как говорят, развиваются мышление и познание. Точно так же и нравственное чувство и воля должны постепенно развиваться из инстинктов и побуждений. Так понимают врожденное – как постепенное развитие из естественных движущих сил. И это развитие делает нравственное естественным результатом и итогом, благодаря чему оно представляется чем-то само собой разумеющимся. Поэтому этическое обоснование не только излишне, но и подозрительно, ибо оно, кажется, претендует на открытие некоего собственного, нового в качестве нравственного.
Действительно, такая претензия может показаться чем-то странным. Культура тысячелетиями работала над нравственным, и вся теоретическая культура участвовала в разработке этих представлений: как же тогда понять, что этика могла бы выполнить или даже стремиться к чему-то иному, кроме методического определения понятия нравственного, к которому все виды культуры вместе с познанием его окружения должны также поставлять признаки, объединяемые в этом понятии? Конечно, объединение требует также обработки этих признаков, но только культура может их выявить.
К культуре относится и религия. И как бы мало ей ни удавалось и ни могло удаться осуществить нравственность на земле, только пристрастное ослепление и агитационный боевой клич могут объявить её обманом жрецов и отрицать всю её ценность для нравственной культуры. Ошибка этого суждения опять-таки заключается лишь в мнении, что нравственное естественно, потому что самоочевидно, и что только религия испортила и сделала неузнаваемой эту природу нравственного. Эту ошибку можно также обозначить как ошибку исторического понимания. Религия принадлежит истории также в отношении истории нравственных идей. Эти идеи составляют преимущественно содержание истории.
В предыдущем мы старались прояснить отношение индивида к учреждениям и идеям и признали индивида как индивида идеи; ведь даже материальное культурное учреждение есть выражение идеи. Теперь, наоборот, следует рассмотреть отношение идеи к индивиду. Нравственные идеи не выросли сами по себе, а были выработаны и созданы индивидами. Кто были эти индивиды? Конечно, среди них были философы, поэты, судьи и государственные деятели; но, возможно, не только хронологически прежде всех них, но и по глубине энергии и мощи – это основатели религий, которые придумали нравственные идеи, боролись за их ценность и отдавали за них свои жизни.