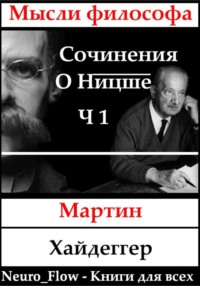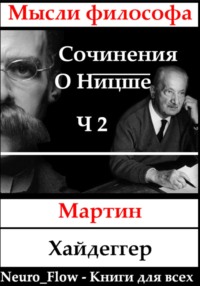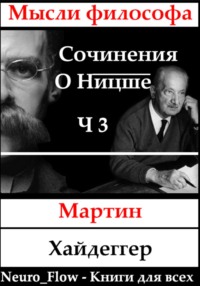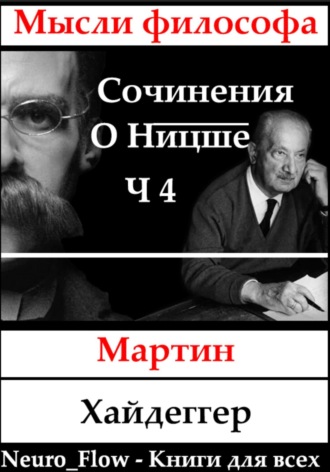
Полная версия
Сочинение о Ницше часть 4 – Бытие как воля к власти
Кто, если только он действительно размышляет над всем прежде сказанным, не захочет предположить, что само бытие совершает это возможное? И кто, если только он на самом деле мыслит, смог бы ускользнуть от этого предельного ускользания бытия и не почувствовать, как оно затрагивает его, а почувствовав, не предположить, что в этом бытии сокрыто требование, обращенное к нему – в бытии, которое само есть это требование, затрагивающее человека в его сущности? В этой сущности нет ничего сугубо человеческого. Она являет собой пристанище при-бытия бытия, которое, будучи этим при-бытием, наделяет себя тем пристанищем и вверяется ему, так что только вследствие этого и только таким образом бытие «дает» себя. Бытийно-историческая сущность нигилизма совершается как история тайны, которая предстает как сущность метафизики.
Для мышления сущность нигилизма – загадка. Она признается, однако такое признание не выглядит так, как будто задним числом в результате этого признания дается согласие на нечто такое, чем можно было бы заранее располагать. Это при-знание как при-стояние раскрывается в на-стойчивом на-стоянии (Inständigkeit): в упорно ожидающем внутри-стоянии (Innestehen) посреди сокрытой истины бытия, ибо только благодаря на-стойчивому на-стоянию человек может сохранять себя как мыслящего в своей сущности.
Намереваясь мыслить, мышление уже находится в состоянии признания загадки истории бытия, ибо, едва начав мыслить, оно тотчас примысливает бытие. Изначальное притязание бытия предстает в избытии несокрытости бытия в несокрытое сущего как такового.
Поначалу мышление долго не обращает на это внимания, и это мешает ему понять, что явления в привычном смысле понимаемого нигилизма вызваны отпущением (Losslassung) бытия, в результате которого избытие его несокрытости предается упущению (Auslassung) через метафизику, которая в то же время скрытым образом препятствует при-бытию себя скрывающего бытия. Поскольку нигилистические явления возникают из отпущения бытия, они вызываются преобладанием сущего и способствуют удалению сущего от бытия.
В этом событии избытия бытия в отпущение сущего человек исторгается из ускользающей истины бытия. Представляя бытие в смысле сущего как такового, он предается сущему, чтобы из сущего, немощно предаваясь ему, утвердить себя самого как сущее, которое, предоставляя-производя, овладевает сущим как чем-то предметным. Человек из себя самого соотносит свою сущность с надежностью посреди сущего – против и за него. Своего твердого и обеспеченного положения в сущем он стремится достичь через полное упорядочение всего сущего в смысле спланированного обеспечения постоянства, благодаря чему должно обозначиться верное направление в сторону безопасности и надежности.
Опредмечивание всего сущего как такового, совершающееся из вхождения человека в исключительное своеволие его воли, есть бытийно-историческая сущность того процесса, в ходе которого человек устанавливает свою сущность в субъективности. В соответствии с этой субъективностью человек утверждает себя и то, что он представляет как мир, в контексте субъектно-объектных отношений, вытекающих из этой субъективности. Всякая трансцендентность, как онтологическая, так и теологическая, представляется в ракурсе субъектно-объектного отношения. В результате вхождения в субъективность теологическая трансцендентность и тем самым самое существенное в сущем (которое довольно примечательно называют «бытием») превращается в некий вид объективности, а именно в некий вид субъективности морально-практической веры. Независимо от того, воспринимает ли человек эту трансцендентность как «обеспечение» своей религиозной субъективности или только как повод для проявления воли, характерной для его эгоистичной субъективности, сущность этой основной метафизической позиции остается одной и той же.
Нет оснований удивляться тому, что эти противоположные точки зрения, рассмотренные в себе, господствуют одновременно, так как обе берут начало в одной и той же метафизике субъективности. Как метафизика она с самого начала оставляет непомысленным само бытие в его истине, однако как метафизика субъективности она превращает бытие в смысле сущего как такового в предметность пред-ставления и пред-полагания. Предполагание бытия как ценности, положенной волею к власти, является лишь последним шагом новоевропейской метафизики, в которой бытие обнаруживается как воля.
Однако эта история метафизики как история несокрытости сущего как такового есть история самого бытия. Новоевропейская метафизика субъективности есть допущение (Zulassung) самого бытия, которое в избытии своей истины вызывает упущение (Auslasung) этого избытия. Сущность же человека, которая скрытым образом является принадлежащим самому бытию при-станищем этого бытия в его при-бытии, все больше и больше упускается как таковая, по мере того как все существеннее это при-бытие сохраняется в форме ускользания бытия. По отношению к своей сущности, которая вместе с самим бытием пребывает в ускользании, человек испытывает неуверенность, будучи не в силах понять ее причину и природу. Вместо отыскания причины и природы этой неуверенности он ищет в надежном самоустроении первое истинное и постоянное. Поэтому он стремится к им самим обустраиваемому обеспечению и обнадеживанию самого себя в сущем, которое исследуется лишь на предмет того, что нового и еще более надежного оно может предложить в смысле этого обеспечения. В результате становится ясно, что среди всего сущего человек неким особым образом помещен в область неопределенного. Это, в свою очередь, позволяет предположить, что судьба человека (причем именно в его отношении к его сущности) раньше всего поставлена на карту. Тем самым смутно вырисовывается такая возможность: сущее как таковое может бытийствовать только таким образом, что оно все подвергает риску и само является «мировой игрой».
В годы работы, посвященной задуманному главному труду, Ницше вкратце изложил основные мысли своей метафизики в одном стихотворении. Оно включено в «Песни принца Фогельфрая», которые в качестве «приложения» (V, 349) вошли во второе издание «Веселой науки» (1887 г.).
К Гете
Что есть и не прейдет по Божьей воле,
Оно – твоя лишь притча и не боле!
А Бог, творец обманчивых тенет,—
Пронырством уловляющий поэт.
И мировое колесо, вовсю кружась незримо,
Накручивает цели, тесня одну другой:
И злобный говорит: «То есть необоримость»,
Безумец же зовет вращение игрой…
И ею полон мир, она вершить стремится,
Мешая бытие и то, что только мнится,
И вечно-глупое, крепя свой властный глас,
К смешенью этому примешивает – нас!
Вместо того чтобы давать подробное истолкование этих строк, в котором пришлось бы повторять многое из уже сказанное, ограничимся следующим соображением.
Итак, последняя строфа дает понять, что Ницше осмысляет игру, «которой полон мир», то есть «мировую игру» в ракурсе воли к власти как «стремящуюся вершить». Эта воля полагает «бытие» как условие, при котором она обеспечивается постоянством. Вместе с «бытием» она полагает «то, что только мнится», то есть «видимость» (искусство) как условие своего возрастания. Оба, бытие и видимость, смешиваются друг с другом, однако само смешивающее, тот способ, каким воля к власти есть, в этом стихотворении называется «вечно-глупым», именуется «мировым колесом», которое «вовсю кружится». Это вечное возвращение того же самого, которое не полагает никакой непреходящей цели, но лишь «теснит одну другой».
Поскольку человек есть, он есть как форма воли к власти. Власть мирового колеса «примешивает» его в целое становящегося-сущего (Werdend-Seiende).
В метафизической сфере мысли о воле к власти как вечном возвращении того же самого об отнесенности человека к «бытию» остается только сказать:
«И вечно-глупое, крепя свой властный глас,
К смешенью этому примешивает – нас!»
Игровую природу мировой игры ницшевская метафизика осмысляет так, как она ее только и может осмыслять: из единства воли к власти и вечного возвращения того же самого. Без отношения к этому единству речь о мировой игре для Ницше – пустые слова. На самом же деле она у него вполне осмыслена и как таковая включена в язык его метафизики.
Единство воли к власти и вечного возвращения того же самого основывается на взаимной соотнесенности essentia и existentia, чье различение в аспекте их сущностного происхождения остается неясным. Единство воли к власти и вечного возвращения означает: воля к власти на самом деле есть воля к воле, и в этом определении метафизика субъективности достигает вершины своего раскрытия, то есть достигает завершения. Метафизическое понятие «мировой игры» обозначает бытийно-историческое родство с тем, что Гете постигает как «природу», а Гераклит как κόσμος (см. Fragm. 30).
В порою ясном, порою смутном господстве метафизически осмысленной мировой игры сущее как таковое то раскрывается как воля к власти, то опять скрывается. Всюду сущее как таковое вносит себя в несокрытость, которая дает ему проявиться как себя-на-себе-поставляющему (Sich-auf-sich-selbst-stellende) и как себя-самого-перед-собой-приносящему (Sich-selbst-vor-sich-bringende). Это основная черта субъективности. Сущее как subiectität решительным образом упускает истину самого бытия, поскольку subiectität исходя из своего собственного стремления к обеспечению себя полагает истину сущего как достоверность. Subiectität не есть порождение человека, но человек обеспечивает себя как сущего (der Seiende), который соответствует сущему (das Seiende) как таковому, поскольку он волит себя как я-субъектаи мы-субъекта, поскольку он пред-ставляет себя себе и тем самым предо-ставляет себя себе.
Тот факт, что сущее как таковое есть по способу субъективности и что человек в соответствии с этим, находясь посреди сущего, обыскивает и исхаживает его в поисках всех возможных путей обеспечения своей уверенности и надежности, повсюду свидетельствует только об одном: в истории своего избытия само бытие, так сказать, не торопится со своей несокрытостью. Само бытие бытийствует как это самоудержание (Ansichhalten). Однако это сущностное бытийствование самого бытия совершается не где-то позади сущего или над ним: оно, если можно так сказать, есть передсущим как таковым. Поэтому и мнимое действительное (Wirkliche) привычно представляемого нигилизма остается позади его подлинной сущности. Тот факт, что наше мышление, на протяжении многих веков успевшее свыкнуться с метафизикой, не улавливает этого, ни в коей мере не доказывает обоснованности противоположного мнения. О чем здесь вообще следовало бы спросить, так это о том, что в данном случае имеет существенное значение: доказательства мышления, какими бы они ни были, или сами намеки бытия?
Но тут возникает вопрос: как мы можем быть уверенными во всем том, что касается этих намеков? Надо сказать, что сам вопрос, который звучит столь серьезно и к месту, исходит из того притязания, которое еще принадлежит сфере метафизики субъективности. Это, однако, не означает, что его можно обойти стороной. Речь, скорее, идет о том, чтобы спросить, все ли продумывает и продумал этот призыв к поиску критериев достоверности: все ли он продумал из того, что принадлежит сфере, в которой ему хотелось бы прозвучать?
Бытийствующее нигилизма есть избытие бытия как такового. В этом избытии оно обещает самое себя в своей несокрытости. Избытие предает себя упущению самого бытия в тайне истории, каковая тайна в лице метафизики скрывает в несокрытости сущего как такового истину бытия. Будучи обещанием своей истины, бытие не торопится раскрыть свою сущность. Из этого самоудержания совершается допущение упущения избытия. Самоудержание, совершающееся из дали ускользания, скрывающего себя в соответствующей фазе метафизики, определяет как έποχή самого бытия определенную эпоху в истории этого бытия.
Но когда само бытие ускользает в свое самое далекое утаивание, сущее как таковое, получившее возможность стать исключительным мерилом для «бытия», поднимается во всей полноте своего господства. Сущее как таковое появляется как воля к власти, в которой бытие совершает свою subiectität как воля. Метафизика субъективности столь решительно упускает само бытие, что оно остается сокрытым в ценностном мышлении, а это последнее само едва ли уже может сознавать и утверждать себя как метафизика. Когда метафизика в своем круговороте совершает упущение бытия, это упущение, не признаваемое таковым, становится истиной сущего в форме обеспечения постоянства и отъединяет истину сущего как такового от истины бытия. Однако при этом, в соответствии с полным непониманием метафизики самой себя, это отъединение предстает как освобождение от всякой метафизики (ср. «Götzen-Dämmerung», «Wie die „wahre Welt" endlich zur Fabel wurde», VIII, 82 f.).
Таким образом неподлинное, которое есть в нигилизме достигает безусловного преобладания, за которым подлинное (а вместе с ним и его отношением к неподлинному также и сущность нигилизма) исчезают в недоступно-немыслимом. В эту эпоху истории бытия о себе заявляют последствия преобладания неподлинного в нигилизме и только они, но они всегда заявляют о себе не как последствия, а как сам нигилизм. Именно поэтому нигилизм обнаруживает только деструктивные черты. Они постигаются, приветствуются или оспариваются в свете метафизики.
Анти-метафизика, переиначивание метафизики, а также защита прежней метафизики – все это одна лишь возня давно совершающегося упущения избытая самого бытия.
Борьба вокруг нигилизма, за и против него, идет на поле, пределы которому положены преобладанием не-сущности нигилизма. Эта борьба ничего не решает. Она лишь удостоверяет преобладание неподлинного в нигилизме. Даже там, где кажется, что эта борьба ведется с противоположных нигилизму позиций, она всегда остается принципиально нигилистической – в полном соответствии с обычным, деструктивным значением этого слова.
Воля, направленная на преодоление нигилизма, превратно понимает самое себя, потому что она не хочет увидеть того, что сущность нигилизма есть история избытия самого бытия,– не хочет, но в то же время не знает об этом нежелании. Непризнание сущностной невозможности преодолеть нигилизм в пределах метафизики или даже через ее переиначивание может зайти так далеко, что отрицание такой возможности тотчас воспринимается как принятие нигилизма или как равнодушное созерцание его гибельных проявлений без какого-либо желания что-либо предпринять.
Так как избытие бытия есть история бытия и, таким образом, подлинно сущая история, сущее как таковое впадает в неисторическое (Ungeschichtliche), особенно в эпоху господства не-сущности нигилизма. Признаком этого является появление истории (Historie), притязающей на то, чтобы дать нормативное представление об истории (Geschichte). Эта дисциплина воспринимает историю как некое прошедшее и объясняет его в его возникновении как причинно доказуемую цепь взаимодействий. Прошедшее, опредмеченное через рассказ и разъяснение, появляется в горизонте того настоящего, которое совершает это опредмечивание и, если дело идет на лад, объявляет себя самого результатом прошлых событий. Чтό представляют собой факты и фактичность, что вообще являет собой сущее в ракурсе такого прошедшего – все это якобы известно, потому что опредмечивание, совершаемое исторической дисциплиной, всегда умеет преподнести какой-то фактический материал и поместить его в общепонятный и, главное, «современный» смысловой контекст.
Там и сям историческая ситуация расчленяется, так как она есть исходный пункт и цель одоления сущего в смысле обеспечения в нем местоположения человека и его связей. Историческая дисциплина, сознательно или неосознанно, состоит на службе человеческой воли, стремящейся утвердить человека в сущем в соответствии с горизонтом обозримой упорядоченности. Как воля к обычно понимаемому нигилизму и его действию, так и воля к преодолению нигилизма одинаково движутся в историческом (historisch) просчитывании исторически же анализируемых персонажей и всемирно-исторических ситуаций.
Вопрос о том, что такое история, порой также ставится (всего лишь «также») в исторической дисциплине, но ставится то задним числом, то мимоходом и постоянно таким образом, как будто исторические (historische) представления об истории (Geschichte), если их как следует обобщить, смогут дать определение сущности истории. Там же, где таким вопрошанием начинает заниматься философия, пытающаяся представить онтологию исторического события, дело кончается метафизическим истолкованием сущего как такового.
История как бытие, всецело исходящее из сущности самого бытия, остается непродуманной. Поэтому всякое историческое размышление человека о своем положении остается метафизическим и, следовательно, само принадлежит сущностному упущению избытия бытия. Необходимо осмыслить метафизический характер исторической науки, если мы хотим уяснить значимость исторического размышления, которому иногда начинает казаться, что оно призвано если не спасти человека в эпоху завершившейся не-сущности нигилизма, то, по крайней мере, просветить его.
Между тем, сообразуясь с запросами и требованиям эпохи, действенное исполнение истории (Historie) перешло от специальной науки к журналистике. Журналистика, понятая адекватно и без какого-либо пренебрежения по отношению к ней, означает метафизическое обеспечение и утверждение повседневности, характерной для наступающей эпохи, в форме надежной, то есть максимально быстро и достоверно работающей истории (Historie), с помощью которой каждый может воспользоваться той или иной полезной предметностью дня. Одновременно в ней улавливается отблеск совершающегося опредмечивания сущего в целом.
Завершившейся метафизикой субъективности, которая соответствует предельному ускользанию истины бытия, изменяя его до неузнаваемости, начинается эпоха безусловного и полного опредмечивания всего, что есть. В этом опредмечивании сам человек и все человеческое становятся одной лишь наличностью, которая, будучи психологически просчитанной, включается в рабочий ход воли, сцепленной с волей, причем не важно, если кто-то мнит себя свободным, а кто-то другой истолковывает этот процесс как чисто механический. Оба не осознают той скрытой бытийно-исторической, то есть нигилистической, сущности, которая, говоря языком метафизики, постоянно остается чем-то духовным. Тот факт, что в процессе безусловного опредмечивания сущего как такового сырью и обработанному материалу отдается большее предпочтение, чем человечеству, превратившемуся в человеческий материал, объясняется не якобы материалистическим предпочтением, оказываемым материи и силе перед человеческим духом: причина в безусловности самого опредмечивания, которое должно овладевать всем наличествующим, каким бы оно ни было, и обеспечивать это овладение.
Безусловное опредмечивание сущего как такового исходит из совершившегося господства субъективности. Она бытийствует из предельного отпущения сущего как такового в упущение самого бытия, которое таким образом максимально отдаляет свое избытие и в качестве этого отказа посылает бытие в форме сущего как такового – как посыл (Geschick) полной сокрытости бытия посреди окончательного обеспечения и утверждения сущего.
История (Geschichte), сокрытая в ее историчности (Geschichtlichkeit), истолковывается исторически (historisch), то есть метафизически, и к тому же, быть может, с разных, если не с прямо противоположных, точек зрения. Полагание целей, предусматривающих всяческое упорядочение, утверждение человеческих ценностей сообразуются с позицией ценностного мышления общественности и придают ей значимость.
Подобно тому как несокрытость сущего в качестве его истины становится ценностью, тот вид несокрытости, который называется общественностью и который заявляет о себе в сущностном следовании такого истолкования сущности истины, становится необходимой ценностью обеспечения постоянства воли к власти. Каждый раз это предстает в виде метафизических (или антиметафизических, что, в сущности, одно и то же) истолкований того, что именно должно считаться сущим и что не-сущим. Однако таким образом опредмеченное сущее есть тем не менее не то, что есть.
То, что есть, есть то, что совершается. То, что совершается, уже совершилось. Это не означает, что оно прошло. То, что совершилось, есть то, что собралось в сущности бытия, оно есть из-бывшееся (Ge-Wesen), из которого и в качестве которого происходит при-бытие самого бытия, пусть даже в виде избывающего самоудаления (Sichentziehen). Прибытие удерживает сущее как таковое в его несокрытости и оставляет ему его как непомысленное бытие сущего. То, что происходит, есть история бытия, есть бытие как история его избытия. Это избытие свойственно сущности человека, поскольку как человек нашей эпохи он не знает, что его сущность утаена от него. Избытие бытия характерно для сущности человека в том смысле, что человек в своей отнесенности к бытию, сам того не зная, уклоняется от бытия, понимая его только в ракурсе сущего и желая именно так понимать всякий вопрос о «бытии».
Если бы признание человека в его бытийно-исторической сущности уже совершилось, тогда он должен был бы опытно постичь сущность нигилизма. Этот опыт позволил бы ему понять, что нигилизм в его обычном понимании есть то, что он есть, в результате совершившегося господства не-сущности, скрывавшейся в сущности нигилизма. Этим сущностным происхождением метафизически понимаемого нигилизма и объясняется его неодолимость. Однако он не потому не дает одолеть себя, что неодолим, а потому, что всякое стремление к его преодолению остается несоразмерным его сущности.
Историческое отношение человека к сущности нигилизма может заключаться только в готовности его мышления идти навстречу избытию самого бытия. Это бытийно-историческое мышление ставит человека перед сущностью нигилизма, в то время как всякое желание преодолеть нигилизм хотя и относит нас назад, но ровно настолько, сколько необходимо для того, чтобы он еще ожесточеннее подчинил нас своей власти в продолжающем господствовать горизонте метафизически определяемого опыта и внес смуту в наше разумение.
Бытийно-историческое мышление позволяет бытию войти в сущностное пространство человека. Поскольку эта сущностная сфера является тем пристанищем, которым бытие наделяет себя как само бытие, это означает, что бытийно-историческое мышление позволяет бытию бытийствовать как самому бытию. Это мышление совершает шаг назад из метафизического представления. Бытие проясняется как при-бытие самоудержания отказа своей несокрытости. То, что называется словами «прояснять», «прибывать», «удерживаться», «отказывать», «раскрывать», «скрывать», есть одно и то же единое бытийствующее: бытие.
Между тем в совершающемся шаге назад это именование («бытие») одновременно утрачивает свою именующую силу, поскольку оно все еще неожиданно означает «присутствие и постоянство», то есть те определения, к которым бытийствующее (Wesende) бытия никогда нельзя присовокупить лишь как некое дополнение. С другой стороны, попытка мыслить бытие как бытие в соотнесении с традицией должна идти до конца, чтобы стало ясно, что бытие больше не позволяет определять себя как «бытие» и почему оно этого не позволяет. Этот предел не заставляет мышление угаснуть, напротив, он изменяет его, а именно превращает в ту сущность, которая уже предопределена из утаивания истины бытия.
Когда метафизическое мышление посылает себя на шаг назад, оно намеревается освободить сущностное пространство человека. Однако бытие побуждает такое освобождение мыслить навстречу при-бытию его избытия. Шаг назад не теснит метафизику в сторону: скорее, мышление, вращающееся в кругу постижения сущего как такового, только теперь имеет сущее метафизики перед собой и вокруг себя. Бытийно-историческим происхождением метафизики по-прежнему остается долженствующее быть помысленным. Таким образом ее сущность сохраняется как тайна истории бытия.
Избытие бытия есть ускользание его самого в самоудержании его несокрытости, которая обещает его в его отказывающем самосокрытии (Sichverbergen). Таким образом, бытие бытийствует в ускользании, из-несении как обещание. Однако это изнесение остается внесенностью, каковое как само бытие позволяет приблизиться своему пристанищу к себе, то есть вносит себя в него. Будучи таковым, бытие даже в избытии своей несокрытости никогда не оставляет той несокрытости, которая в самоудержании бытия остается лишь несокрытостью сущего как такового. В качестве этого при-бытия, никогда не оставляющего своего пристанища, бытие предстает как не-от-ступное (Un-ab-lässige). Таким образом оно предстает как вынуждающее (nötigend). Бытие бытийствует таким образом, поскольку оно как при-бытие нуждается в несокрытости этого прибытия не как нечто чуждое, но как бытие. Бытию необходимо пристанище. Оно, нуждаясь в нем, взыскует его.
Бытие является вынуждающим в единой смысловой двоякости: оно есть не-от-ступное и нуждающееся в пристанище, каковое бытийствует как сущность, которой принадлежит человек как предмет нужды. Двояко вынуждающее есть и называется нуждой. В прибытии избытия несокрытости бытия само бытие есть нужда (Not).