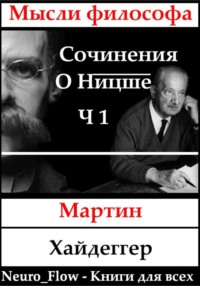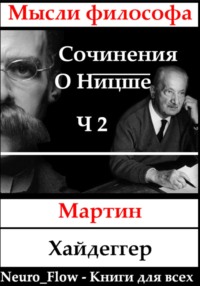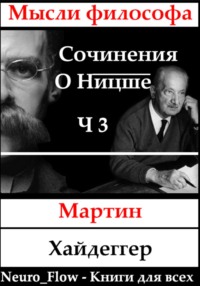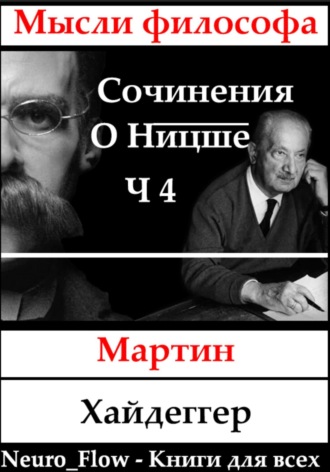
Полная версия
Сочинение о Ницше часть 4 – Бытие как воля к власти
Но можем ли мы помышлять хотя бы о постановке этого решающего вопроса, не осмыслив прежде самой сущности нигилизма и заодно не задавшись другим вопросом – вопросом о том, не получается ли так, что отсутствие вопроса о сущности нигилизма со-обусловливает господство этих явлений? Не получается ли так, что это господство деструктивного и упомянутое невопрошание о сущности нигилизма и неспособность задаться этим вопрошанием, в конечном счете, имеют общий корень?
Когда бы это было так, мы бы не слишком много добились, если бы пожелали думать, что коль скоро сущность нигилизма не заключается в упомянутом негативном, она представляет собой нечто позитивное. Ведь позитивное вращается в одной сфере со своей противоположностью. Возрастание – распад, восход – закат, вознесение – ниспровержение, созидание – разрушение – все это суть взаимопротивоположные явления, которые отыгрывают свое в сфере сущего. Однако сущность нигилизма затрагивает само бытие или, точнее говоря, бытие затрагивает эту сущность, поскольку бытие вошло в историю, где оно само предстает как отсутствующее.
Теперь, особенно после того как мы достаточно осмыслили предыдущее объяснение нигилизма, мы могли бы сказать, что упомянутые негативные явления не принадлежат непосредственным образом его сущности, потому что просто не достигают ее. Тем не менее мы настаиваем на том, что в сущности нигилизма должно царствовать нечто «негативное». Ибо о чем бы тогда говорило само это наименование, которое мы воспринимаем всерьез? Прежнее определение сущности нигилизма все свое внимание сосредоточивало на различии между подлинным и неподлинным в нигилизме, и это «не» неподлинного обнаруживает негативное.
Да, это так. Но что означает «негативное»? Не обращаемся ли мы в данном случае к хотя и привычному, но довольно грубому представлению? Быть может, принято думать, что неподлинное в нигилизме – это нечто плохое и даже злое, в противоположность подлинному как правильному и хорошему? Или, быть может, подлинный нигилизм воспринимают как злое и плохое, а неподлинный пусть не как хорошее, но, по крайней мере, как нечто незлое?
Не обращая внимания на поспешность обоих выводов, скажем, что они одинаково неверны. Дело в том, что они со стороны оценивают подлинное и неподлинное в сущности нигилизма. Кроме того, они используют такие критерии этой оценки, относительно которых еще надо решить, насколько они адекватны, так как теперь уже, пожалуй, стало ясно, что, задавая вопрос о сущности нигилизма, мы движемся в сфере бытия, которое больше не можем истолковывать и оценивать откуда-то со стороны, если допустить, что применяемый нами способ мышления еще соответствует поставленной цели. Если в нашем рассуждении о сущности нигилизма появляется «не», его можно мыслить только из единства этой сущности. Это единство показывает различие, которое выделяет «не». Однако еще не ясно, содержит ли это «не» свою сущность в различии, или негативное, характерное для «не», привносится в это различие только вследствие негации.
Но что в сущностном единстве нигилизма дает толчок этой негации и повод для нее? На этот вопрос нельзя дать прямого ответа, и поэтому мы довольствуемся осознанием того, что в сущности нигилизма царствует различное (Unterschiedliches), каковое затрагивает само бытие. Упомянутое «не» покоится не только и не в первую очередь на негации и ее негативном. Но если в сущности нигилизма совсем нет основной черты негации в смысле чего-то деструктивного, тогда намерение напрямую преодолеть нигилизм как нечто якобы лишь деструктивное, предстает в странном свете. Еще более странным была бы точка зрения, согласно которой мышление, отвергающее непосредственное преодоление сущностно осмысленного нигилизма, должно принимать нигилизм, причем в его привычном значении.
Что значит преодоление? Преодоление означает: подмять что-либо под себя и одновременно таким образом поставленное-под-себя оставить позади себя как то, что впредь не будет иметь никакой определяющей силы. Даже тогда, когда преодоление не нацелено на устранение, оно все равно остается выступлением против чего-то.
Преодолевать и хотеть преодолеть нигилизм, осмысленный теперь в его сущности, значило бы, что человек из себя самого выступает против самого бытия в его избытии. Но кто способен, что способно пойти против самого бытия, в каком бы то ни было отношении и намерении, и подчинить его человеку? Бытие не только никогда нельзя преодолеть, но сама попытка сделать это означает стремление лишить сущность человека крепящих ее опор, так как эти опоры состоят в том, что само бытие, в каком бы то ни было способе его бытийствования и даже в избытии бытия, взывает к сущности человека, каковая сущность есть пристанище, которым бытие себя наделяет, чтобы стать в этом при-станище при-бытием несокрытости.
Итак, хотеть преодолеть само бытие, значило бы лишить сущность человека крепящих ее опор. Всю невозможность такого замысла можно было бы представить так, как если бы мышление, которое как таковое мыслит из бытия, повело бы себя совершенно нелепо и вознамерилось бы выступить против этого бытия; такое намерение было бы нелепее (если, конечно, здесь уместно говорить о градации) попытки мышления в мышлении же, которое все-таки есть некое сущее, отрицать сущее как таковое. Однако здесь речь идет не только о том, противоречит ли мышление как таковое в своей собственной деятельности самому себе и, если противоречит, то тем самым не нарушает ли своего основополагающего принципа и не впадает ли в абсурд. Довольно часто человеческое мышление запутывается в противоречиях и тем не менее остается на той дороге, которая приводит его к желанной цели.
Дело в первую очередь не в том и не только в том, что мышление, выступая против самого бытия, впадает в логически невозможное, а в том, что в этом выступлении оно уходит от бытия и совершает оставление сущностной возможности человека, причем несмотря на нелепость и логическую невозможность такого совершения оно вполне искусно может осуществиться.
Дело не в том, что в попытке пойти против избытия бытия как такового и тем самым против него самого, не соблюдается правило мышления, а в том, что само бытие не отпускается как бытие, что оно, скорее, просто опускается. Однако в таком упущении мы и постигли сущностную черту нигилизма. Выступать непосредственно против избытия самого бытия – значит не обращать внимание на само бытие как бытие. Если мы захотим такого преодоления нигилизма, оно обернется лишь более резким возвратом в неподлинное его сущности, которое искажает его подлинное. Но что если это преодоление выступает не напрямую против избытия самого бытия, не сообразуется с самим бытием, а выступает против упущения этого избытия? В форме метафизики это упущение предстает как творение человеческого мышления. Разве не должно это мышление выступить против собственного упущения, которое выражается в том, что само бытие не мыслится в его несокрытости?
Вряд ли кто-нибудь станет оспаривать необходимость такого усилия, но сначала ее надо пережить. Сюда, правда, входит и то, что человек переживает это упущение как таковое, то есть переживает неподлинное в сущности нигилизма. Но возможно ли все это, если прежде он не был затронут подлинным, то есть избытием бытия в его несокрытости?
Между тем бытие не только обладает этой несокрытостью и как бы сохраняет ее для себя, но и в соответствии с сущностной отнесенностью бытия к сущности человека одновременно делает так, что в мышлении человека и через это мышление совершается упущение бытия. Также и преодоление этого упущения совершается человеком лишь опосредствованно, а именно так, что сначала само бытие непосредственно призывает человеческую сущность постичь избытие несокрытости бытия как такового как прибытиесамого бытия и затем осмыслить это постигнутое.
Если мы воспринимаем сущность нигилизма как историю самого бытия, тогда стремление преодолеть нигилизм становится несостоятельным, коль скоро под этим подразумевается, что человек сам подчиняет себе эту историю и включает ее в сферу своего чистого воления. Преодоление нигилизма ошибочно и в том смысле, что человеческое мышление выступает против избытия бытия.
Вместо этого на самом деле необходимо лишь одно: чтобы мышление, призванное самим бытием, пошло навстречу бытию в его избытии как таковом. Такое мышление-на-встречу (Entgegendenken) прежде всего заключается в следующем признании: само бытие ускользает, из-носится, но в качестве этого из-несения (Entzug) оно как раз представляет собой ту отнесенность (Bezug), которая притязает на сущность человека как на при-станище для его (бытия) прибытия. Этим пристанищем уже располагает несокрытость сущего как такового.
Мышление-навстречу не упускает избытия бытия, но и не пытается как бы овладеть этим избытием и устранить его. Такое мышление следует за бытием в его ускользании, избегании, но следует так, что дает возможность идти самому бытию, несколько отставая от него. Но где в таком случае пребывает это мышление? Уже не там, где оно пребывало как прежнее, упускающее мышление. Оно несколько отстает, совершая решающий шаг назад: назад из совершавшегося прежде упущения – но куда? Только в ту область, которая ужа давно оставлена самим бытием мышлению, но оставлена, правда, в завуалированной форме человеческой сущности.
Вместо того чтобы слишком торопливо стремиться к тому преодолению нигилизма, которое всегда оказывается очень недалеким в своих расчетах, мышление, затронутое сущностью нигилизма, пребывает в при-бытии избытия и ожидает его для того, чтобы научиться осмыслять это из-бытие бытия в том, в чем оно само могло бы предстать. В избытии как таковом скрывается несокрытость бытия, причем скрывается как бытийствующее самого бытия. Однако поскольку бытие предстает как несокрытость сущего как такового, оно уже как бы присудило себя сущности человека. В этой сущности оно уже как бы обещало себя и объявило о своем прибытии, поскольку оно утаивает и бережет себя самое в несокрытости своей сущности.
Таким образом присужденное бытие, которое, однако, утаивает себя в избытии, есть его обещание себя самого. Мыслить навстречу бытию в его избытии означает вникать в это обещание, каковое «есть» само бытие. Однако оно есть в своем избытии, то есть поскольку его нет. Эта история, то есть сущность нигилизма, есть судьба самого бытия. Осмысленный в своей сущности и в соотнесении с тем подлинным, что в нем есть, нигилизм представляет собой обещание бытия в его несокрытости, причем так, что оно скрывается именно как это обещание и в своем избытии одновременно дает повод к его упущению.
В чем заключается сущность нигилизма, если это подлинное в то же время мыслится в соотнесении с неподлинным? Неподлинное в сущности нигилизма есть история упущения бытия, то есть история сокрытия упомянутого обещания. Однако если допустить, что бытие само бережет самое себя в своем избытии, тогда история упущения этого избытия как раз является сохранением самобережения (Sichsparen) самого бытия.
Суть неподлинного в нигилизме не являет собой ничего недостаточного и низкого. Существующее не-сущности в сущности не являет собой ничего негативного. История упущения избытия бытия есть история сохранения обещания бытия, причем таким способом, что это сохранение остается сокрытым для себя самого в том, что оно есть. Оно остается сокрытым, потому что оно вызвано из скрывающегося ускользания самого бытия и из этого бытия наделено такой сохраняющей сущностью. То, что, следуя своей сущности, сохраняя, скрывает и к тому же в этой своей сущности остается сокрытым для себя самого и тем самым сокрытым вообще, но тем не менее как-то появляется, есть в себе самом то, что мы называем тайной. В неподлинном сущности нигилизма совершается тайна обещания, каковой является само бытие в себе самом, сберегая себя как таковое. История этой тайны, сама тайна в ее истории есть сущность истории упущения избытия бытия. Упущение бытия в мышлении сущего как такового есть история несокрытости сущего как такового. Эта история есть метафизика.
Сущность метафизики состоит в том, что она является историей тайны обещания самого бытия. Эта сущность, осмысленная из самого бытия в его истории, есть существенное не-сущностинигилизма, принадлежащее единству его сущности. Поэтому его (так же, как и сущность нигилизма) нельзя оценить ни положительно, ни отрицательно. Но если стремление напрямую преодолеть нигилизм слишком быстро переступает через его сущность, то и намерение преодолеть метафизику также оканчивается ничем, разве что рассуждения о ее преодолении не предполагают умаления ее значения и тем более ее упразднения.
Поскольку метафизика осмысляется в бытийно-историческом ракурсе, она прежде всего достигает своей сущности, которая от самой метафизики (в соответствии с ее собственной природой) ускользает. Всякое метафизическое понятие о метафизике стремится к тому, чтобы не дать метафизике разобраться в происхождении ее собственной сущности. «Преодоление метафизики», осмысленное бытийно-исторически, всегда означает лишь одно: оставление метафизического истолкования метафизики. Мышление покидает одну лишь «метафизику метафизики», когда делает шаг назад – назад из упущения бытия в его избытии. Совершив этот шаг назад, мышление уже стало мыслить навстречу бытию в его ускользании, каковое ускользание, именно как ускользание бытия, еще остается способом бытия – при-бытием. Мысля навстречу самому бытию, мышление больше не упускает бытия, но, напротив, впускаетего: впускает в изначально раскрывающуюся несокрытость бытия, каковая и есть само это бытие.
Поначалу мы говорили, что в метафизике само бытие остается непомысленным, но теперь нам стало понятнее, что происходит в этом непомысленном и что представляет оно само в своем совершении. Это история самого бытия в его избытии. Метафизика принадлежит этой истории. Метафизика обращается к мышлению из своего бытийно-исторического происхождения в своей сущности. Она есть неподлинное в сущности нигилизма и совершается из сущностного единства с его подлинным.
До сих пор в слове «нигилизм» слышится что-то резкое, что режет слух негативным в смысле деструктивного. До сих пор метафизика воспринимается как высшая сфера, в которой мыслят о самом глубоком. Наверное, это резкое и на самом деле есть в слове «нигилизм», а высокий авторитет метафизики тоже имеет под собой основание и, таким образом, она с необходимостью окружена ореолом сияния. Правда, это сияние порой неизбежно оборачивается простой видимостью, и метафизическое мышление не может ее одолеть.
Но остается ли оно таким же непреодолимым и для бытийно-исторического мышления? Отмеченная видимость диссонанса в термине «нигилизм» могла бы намекнуть на более глубокое звучание, на которое можно было бы настроиться не с высот метафизики, а исходя из иной области. Сущность метафизики достигает больших глубин, чем она сама: эта сущность проникает в ту глубину, которая принадлежит иной сфере, так что глубина больше не является синонимом метафизической высоты.
По своей сущности нигилизм представляет собой историю обещания, в каковом само бытие бережет себя в тайне, которая, сама будучи исторической, из этой истории прячет несокрытость бытия в образе метафизики. Целое этой сущности нигилизма дает мышлению (поскольку эта сущность в качестве истории бытия обретает пристанище в сущности человека) всю полноту мысли. То, что таким образом дается мышлению как долженствующее быть помысленным, мы называем загадкой.
Бытие, обещание его несокрытости как истории тайны, само есть загадка. Бытие есть то, что, исходя из своей сущности, дает помыслить только эту сущность и именно ее. Тот факт, что оно, бытие, дает мыслить, причем не время от времени и не в каком-то одном отношении, а постоянно и во всех отношениях (потому что дает это сущностно), тот факт, что оно, бытие, вверяет мышлению свою сущность, являет собой черту самого бытия. Само бытие есть загадка. Это, однако, не означает, если здесь еще уместно такое сравнение, что бытие представляет собой нечто иррациональное, от которого как бы отскакивает все рациональное, впадая в неспособность мышления. Скорее, бытие, являясь тем, что дает мыслить (а именно являясь тем, что должно быть помысленным), предстает также как нечто единственное, которое из себя самого для себя притязает быть мыслимым; как таковое оно «есть» само это притязание. Само бытие посрамляет недостойную игру в прятки, разыгрывающуюся между иррациональным и рациональным.
Но не остается ли бытийно-историческая сущность нигилизма всего лишь выдуманным прибежищем мечтательной мысли, куда спешит укрыться всякая романтическая философия, бегущая от истинной действительности? Что означает эта, существующая на уровне мысли, сущность нигилизма в сравнении с единственно действенной действительностью действительного нигилизма, который всюду сеет смятение и разруху, понуждает к преступлению и ввергает в отчаяние? Что может это ничто бытия, существующее только в мысли, перед лицом действительного у-ничто-жениявсего сущего, которое, прибегая к насилию, вторгающемуся во все и вся, делает тщетным почти всякое сопротивление?
Вряд ли надо подробно описывать, каким образом действительный нигилизм резко и мощно распространяет свое влияние, тот нигилизм, который даже без его сущностной дефиниции, далекой от наличной действительности, достаточно остро дает себя почувствовать. Кроме того, разве опыт, пережитый Ницше, при всей односторонности его истолкования «действительного» нигилизма, не является настолько точным и убедительным, что в сравнении с ним предпринятое теперь определение сущности нигилизма кажется просто призрачным, не говоря уже о его бесполезности? Разве, глядя на то, какая угроза нависла над всем божественным, человеческим, вещественным и природным, станет ли кто-нибудь заботиться о каком-то упущении избытия бытия, каковое если и происходит, то скорее напоминает игру в прятки, затеянную какой-то безнадежной абстракцией?
Если бы, по крайней мере, наметилась какая-то взаимосвязь между действительным нигилизмом (или хотя бы тем нигилизмом, какой переживал Ницше) с осмысленной сущностью нигилизма, тогда последний лишился бы бросающейся в глаза видимости чего-то недействительного, той видимости, которая кажется еще большей, чем признанная загадочность упомянутой сущности.
Остается без ответа первоочередной вопрос о том, не исходит ли «сущность» бытия из сущего, не может ли действительное как сущее во всем своем коловращении определять действительность, определять бытие или, быть может, действенность из самого бытия уже вызывает к жизни все действительное?
На себе ли замыкается все то, что на опыте постигает и осмысляет Ницше, а именно история обесценения высших ценностей? Не бытийствует ли в этой истории бытийно-историческая сущность нигилизма? Тот факт, что ницшевская метафизика истолковывает бытие как ценность, есть действенно-действительное упущение избытия самого бытия в его несокрытости. В этом истолковании бытия как ценности находит свое выражение неподлинное, совершающееся в сущности нигилизма, каковое неподлинное не знает себя самого и все-таки есть из сущностного единства с подлинным нигилизма. Если Ницше действительно пережил историю обесценения высших ценностей, тогда таким образом пережитое вместе с самим опытом переживания является действительнымупущением избытия бытия в его несокрытости.
Это упущение есть как действительная история и как таковая она совершается из сущностного единства неподлинного, которое есть в нигилизме, с его подлинным. Эта история не представляет собой ничего такого, что было бы где-то рядом с «сущностью»: она есть сама эта сущность и только она одна.
К своему истолкованию природы нигилизма («Что обозначает нигилизм? – То, что высшие ценности теряют свою ценность») Ницше добавляет такое пояснение: «Нет цели. Нет ответа на вопрос „зачем?"» («Wille zur Macht», n. 2).
Этот вопрос мы осмыслим глубже, если будем иметь в виду, каков горизонт его вопрошания и о чем он спрашивает. Он опрашивает (befragt) сущее как таковое в целом, почему оно есть? Будучи таким метафизическим вопросом, он спрашивает о том сущем, которое могло бы быть основанием для того, что есть и как оно есть. Почему вопрос о высших ценностях содержит вопрос о предельном? Можем ли мы сказать, что недостает только ответа на этот вопрос? Или бьет мимо цели сам вопрос как таковой? Вопрошая, он действительно бьет мимо цели, поскольку, вопрошая о сущем основании сущего, он в своем вопрошании проходит мимо самого бытия и его истины, упускает бытие. Этот вопрос уже как вопрос (а не только потому, что на него нет ответа) промахивается, и промах заключается не просто в том, что в сам вопрос вкрадывается нечто неправильное. Вопрос бьет мимо самого себя. Он помещает себя в бесперспективное, в кругу которого все возможные ответы заранее оказываются слишком недостаточными.
Однако в том, что, как констатирует Ницше, ответ на вопрос «зачем?» действительно отсутствует, а там, где он еще дается, он с точки зрения всей полноты сущего остается недейственным, в том, что это сущее естьи есть так, как оно есть, заключено иное. Этот вопрос, даже оставаясь без ответа, все еще господствует над всяким вопрошанием. Тем не менее исключительное действительное господство этого вопроса есть не что иное, как действительное же упущение избытия самого бытия.
Является ли сущность нигилизма чем-то абстрактным, если осмыслить ее с такой точки зрения? Или же это бытийствующее истории самого бытия есть то событие, из которого теперь совершается вся история (Geschichte)? Но, быть может, тот факт, что история (Historie), даже того уровня и дальновидности, которые свойственны Якобу Буркхардту, ничего не знает обо всем этом и ничего не может знать, является достаточным доказательством того, что эта сущность нигилизма просто не«есть»?
Если метафизика Ницше не только истолковывает бытие из сущего в смысле воли к власти как ценности, если Ницше даже мыслит волю к власти как принцип нового полагания ценностей и понимает и хочет понимать это полагание как преодоление нигилизма, тогда в этом желании преодоления выражается предельная вовлеченность метафизики в неподлинное нигилизма, причем выражается так, что эта вовлеченность отмежевывается от своей собственной сущности и таким образом, якобы преодолевая нигилизм, только перемещает его в действенное его обособившейся не-сущности.
Мнимое преодоление нигилизма первым делом утверждает господство безусловного упущения избытия самого бытия в пользу сущего, мыслимого как воля к власти, полагающая новые ценности. Через свою из-несенность, которая тем не менее остается отнесенностьюк сущему, каковое предстает как «бытие», само бытие отпускается в волю к власти, каковая, будучи сущим, как кажется, господствует до всякого бытия и над всяким бытием. В этом господстве и этой кажимости бытия, сокрытого в отношении своей истины, бытийствует избытие бытия в том смысле, что оно допускает максимальное упущение себя самого и таким образом содействует напору одного лишь действительного (часто упоминаемых реалий), каковое действительное горделиво утверждается в том, что оно есть, одновременно полагая себя критерием, якобы достаточным для утверждения, что только действенное (ощутимое и его впечатление, пережитое и его выражение, польза и успех) может иметь силу как сущее.
В этой крайней форме как будто бы для себя являющегося неподлинного, присутствующего в нигилизме, на самом деле присутствует бытийно-историческое сущностное единство нигилизма. Но если предположить, что безусловное появление воли к власти в целом сущего не есть ничто, то не получается ли так, что скрыто господствующая в этом появлении сущность бытийно-исторического нигилизма представляет собой лишь нечто надуманное или даже фантастическое?
Однако коль скоро речь зашла о фантастике, то не в том ли она на самом деле кроется, что в действительности мы весьма привыкли выхваченные и негативно истолкованные проявления последствий нигилизма, не понятого в его сущности, считать за единственно действительное, а то бытийствующее, что есть в этом действительном, оставлять без внимания как совершенное ничто? Не получается ли так, что этот, разумеется, фантастический подход сродни тому нигилизму, которым он, конечно же, из лучших побуждений и преисполнившись воли к порядку, мнит себя незатронутым или от которого считает себя свободным?
Бытийно-историческая сущность нигилизма не есть нечто, присутствующее в одной лишь мысли, равно как она не парит над действительным нигилизмом в некоей свободной оторванности от него. Напротив, то что считают «действительным», существует лишь из истории сущности самого бытия.
Правда, различие между неподлинным и подлинным, господствующее в сущностном единстве нигилизма, могло бы перерасти в максимальный отход неподлинного от подлинного. Тогда самому сущностному единству нигилизма пришлось бы в соответствии со своим собственным значением укрыться в предельном. Ему пришлось бы, подобно ничтожествующему ничто, исчезнуть в несокрытости сущего как такового, которое всюду воспринимается как само бытие. В результате сложилась бы такая картина, как будто самого бытия (если бы вообще могла возникнуть мысль о нем) на самом деле нет.