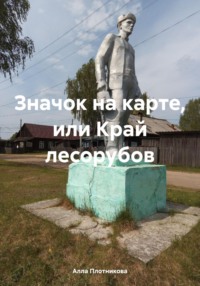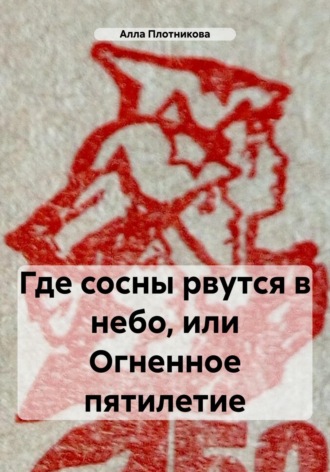
Полная версия
Где сосны рвутся в небо, или Огненное пятилетие
– Да, коров и сейчас много, – отметила пионерка: «Кроме того, в каждой избе занимались каким-либо ремеслом для себя, на обмен, но не на продажу. Валенки катали, лапти, бродни плели, корзины, бураки, пестери, туеса изготавливали, вырезали деревянные ложки, кадки для засола капусты, огурцов, грибов, брусники изготавливали. В общем, для себя делали посуду. А ещё одежду мастерили: ткали прочно и красиво, шили добротно, узорами украшали».
– Катерина, что ты там всё пишешь? – оторвавшись от сортировки марок, зычно поинтересовалась заведующая и, почти не слушая объяснений, добавила: – Молодец, молодец. Умничка, девонька моя!
Школьница улыбнулась и, найдя пальчиком в книге нужную строчку, продолжила запись: «И кузнецы были. Они сошники к сохам варили, и палицы мастерили. К телегам сердечники делали, шины к колёсам. Серпы, косы, горбуши тоже умели ладить. В общем, несмотря на капризы природы, неплохо жили бисеровцы. Особенно выделялась семья Порубовых».
– Опять эти Порубовы. – подумала Катя. – Приставучие какие. Не люди, а репейники какие-то.
Было хотела пропустить абзац о самых зажиточных бисеровцах, но увидела мысленно счастливое, от чтения новых сведений о Родьке, лицо Марины. Отступив две строчки, Катя продолжила: «Все они были зажиточными людьми, к тому же родственниками. И помогали друг друг, и в беде выручали. Пусть пай на пай – но выручали», – последняя строчка заставила пионерку улыбнуться: «Если помогать постоянно бескорыстно – можно и в бедность скатиться. Тогда никому не поможешь в следующий раз. Среди них выделялся своим бесстрашием Родион Порубов. Он мог повести за собой своих соплеменников, как Данко!»
– Тамара Михайловна, а кто такой Данко? – оторвавшись от тетрадки, спросила Катя заведующую.
– Данко? – поправляя очки, переспросила заведующая. – Ну, это человек, который вырвал себе сердце…
– А зачем он это сделал? – удивилась пионерка.
– Вроде бы любил кого-то, – заведующая приложила указательный палец к краешку губ. – А нет, стой. Не любил. Темно было. А они на болоте застряли. Болели ещё. Отравлен кто-то был. Звери дикие нападали. Духи злые. Вот Данко и вырвал сердце, чтобы путь осветить, – уже возвращаясь к сортировке почтовых марок, тихо добавила:
– Или всё-таки любил кого-то. Не помню уже. Ты пиши, пиши…
Катя совсем растерялась от такого объяснения, но последовала совету: «Дом, в котором жило семейство Порубовых, был большой, пятистенный, на высоком месте. Бревенчатая просторная изба с надёжными ставнями – казалось, что здесь всё прочно и навсегда. Стены дома, заборы покрыты мхом, в основном белым. Вокруг села густой лес, лес многоярусный. Тёмный древний лес, там не дороги, а тропы, по которым проходят копыта и лапы, на десятки, сотни вёрст пробиваются стёжки-дорожки для пеших путников. И только пением птиц тишина в лесу нарушается.
А ещё в этом краю наряду с людьми жила-соседствовала могущественная лесная нежить в виде ведьм, леших, кикимор, русалок, водяных, шишиг.
Овинники, банники селились ближе к дому, на подворье. Но вот запечники, домовики, встречники, полудницы, ночницы – те селились рядом с хозяевами, домочадцами и проявляли свою суть, как правило, ночью».
– Вот это да, ещё и нежить лесная! – произнесла Катя вслух.
– Что-что, девонька моя? – отозвалась заведующая.
Ещё не отойдя от предыдущего объяснения, Катя сказала: «Всё-таки любил, наверное», – и, зажмурив глазки, вновь нырнула в книжную пыль.
***
Последнюю ночь в Ленинграде у Марины поднялась температура и она ночевала с мамой на соседней полке. Вторая вожатая уступила ей своё место. Она проспала всю ночь, но сон был прерывистым и полным сновидений. Снились ей и одноклассники.
Угрюмый Женя Шефер, плачущий за школой так, что сбежалась половина учителей. Оказалось, что, играя в футбол, он порвал совсем новые ботинки и боялся возвращаться домой. Красавица Люда Пахомова, декламирующая стихи как настоящая актриса. Миша Сычёв, прогульщик и двоечник, но любимчик всех девочек. Серёжа Молодцов, читающий перед классом каждое присланное братом из армии письмо. Галя Клюквина, научившая её складывать цветочки из конфетных фантиков. И даже вновь путешествующая по коленке влажно-бархатистая ладонь Саши Гремячих.
Марине грезилось, что их класс идёт в поход, по рыжей, выцветшей от солнца дороги. Она извивается, тянется, словно желая напиться, вниз, к Вятке, а травы в свою очередь, порываясь утолить неизвестную жажду, льнут к ногам одноклассников. Школьники, не обращая внимание на иссушенный разнотрав, поют песни, смеются, щебечут. В следующий миг уже водят хоровод у костра, секунду спустя, из берёзовых веточек плетут венки. Вновь поют песни, смеются озорней и громче обычного.
Но всё это как будто не с ней, а с другой девочкой, за жизнью которой Марина наблюдает немного под углом, сверху.
Проснувшись, она видит в полумраке плацкартного вагона спящую мать. Её мерно покачивающуюся грудь, белые рюшки на рукавах ночнушки. Рядом на столике таблетки, градусник, стакан с водой. Смотря на неподвижную полоску желтого света, проникающую в вагон через окно, Марина понимает, что они стоят на очередной станции. Люди снаружи о чем-то разговаривают, и, прислушавшись к их голосам, она снова засыпает.
И снится ей уже не класс, а неожиданно Родион Порубов. Как выглядел главарь банды, Маринке было неизвестно, но во сне он предстал высоким парнем с густыми черными волосами, зачёсанными на бок, с длинными, как стрелы ресницами, с губами не по-мужски пухлыми, однако, отражая строгость характера, принявшими грубый облик практически прямой черты. Очевидно, этот человек знал, что такое стиснуть зубы. В остальном он был обычный мужчина, каких она видела немало на старых семейных фотографиях.
Во сне Родион ничего не говорил, смотрел на Марину и улыбался глазами, совсем не искривляя губ. Марине от этого взгляда было одновременно и приятно-сладостно и томительно-страшно. Нечто похожее испытывает человек, ласкающий мурлыкающего тигра. Родион протянул к Марине свои большие мягкие руки. В эти руки она могла бы поместиться вся, но даже свои ладони не положила. Прижала их к груди и вновь проснулась.
Мама продолжала, мерно дыша, спать, а поезд, уже покинув станцию, набрал ход. Обычно это чувство посещает как раз таки во время стоянок, но Марине стало тоскливо от движения. Ей померещилось, что поезд увозит её не из Ленинграда с его музеями-театрами, а всё дальше от мечты. Гранёный стакан, ударяясь о подстаканник, поддакивал. Рука с верхней полки опустилась, неестественно изогнувшись в локте, неуклюже затолкала затычку, сделанную из салфетки между стеклом и металлом, оборвала позвякивание. Наблюдая за этим действием, Марина вновь провалилась в темную бездну сна, где повстречалась и вовсе со странным гостем.
Негр-экскурсант, который на борту «Авроры», поддержал оступившуюся Марину за руку, а затем по-английски извинившись, улыбнулся и отошёл к своей группе. Во сне и не думал уходить, он, словно исполняя обрядовый танец, прыгал вокруг, что-то выкрикивал, совсем не на английском, выл, лаял и, сияя дикими глазами, жадно улыбался белоснежными, как дуст, зубами.
Только наряд свидетельствовал о том, что это тот самый галантный посетитель музея революции, а не какой-нибудь незнакомый дикарь из племени каннибалов. На негре и во сне были такие необычные для советского человека вещи: черная кепка с изображением индейского вождя, синяя куртка с красными рукавами и множеством заклёпок, брюки-клёш серого, почти серебряного, цвета. Негр кружил всё быстрее, его серые штанины, красные рукава мелькали перед глазами так быстро, что из элементов одежды превратились в подобие неизвестного летательного аппарата, способного не только достигнуть, но и приземлиться на планету бурь.
Марина вновь очнулась. Ей было душно и в то же время холодно. Очень хотелось пить, но не слыша позвякивание стакана, она не была уверена, существует ли он вообще, и, не решившись приподняться с полки или хотя бы повернуть тяжёлую голову, провалилась так глубоко в сон, что могла бы утонуть, но падала она не вниз, а вверх, летела наперегонки с поездом над лесами, лугами, небом, долинами, и всё, казалось, как будто застыло в некой диораме. Настолько дотошно художник прописал детали, что они потеряли в правдоподобности. Марина могла различить каждую травинку, каждый листочек, каждую прожилку на нём. Однако ни в лесах, ни в лугах, ни в небе не было ни букашки, ни любого другого живого существа. Хоть бы грозовое облачко озарило бледный небосвод, окатило тяжёлыми каплями дождя. Но только достигнув родной Песковки, Марина разглядела жизнь. Пролетая над улицей Катаева, она увидела внизу куда-то идущих людей, они поднимали вверх головы, защищая глаза от солнца, прикладывали сложенные козырьком ладони ко лбу. Некоторые приветственно махали. Тоже и над Шлаковой, Пионерской, Морозова, Байдарова… Хорошо, когда тебе рады.
Пролетая над школой, Маринка попыталась разглядеть одноклассников, но в классах было пусто, только одинокие парты и доски без дат.
Порадовалась, наблюдая за сидящим у берега пруда, в обнимку с неизвестной кошкой, Мурлоком. Там же прогуливалась в тени берёзовой рощи коза Смолка с личным стражником Дьяком.
Пролетев чуть дальше, увидела она и памятник с братской могилой, стоящих у деревянной ограды супругов Безносиковых, отца, дедушку, бабушку с сёстрами, дядек, учителей, с ними Родиона Порубова. Они, улыбаясь радостно, жестами звали Марину к себе. Но озорная пионерка, поприветствовав воздушным поцелуем, летела дальше над родным посёлком, в низеньких домах которого жили все, кого она знала. Между домами, выпуская клубы дыма смешанного с паром, пытался сдвинуться с места тяжёлый паровоз. Куда он отправлялся и откуда прибыл, неизвестно, но Марина ясно видела, как в топочном отсеке вспотевшие матросы, не жалея сил, бросали уголь в печь. Огонь рычал, трещал, охал, гудел так, как гудит, в особенно ненасытные дни, ветер в гигантской трубе чугунолитейного завода. Пролетела Маринка и над ним. Как обычно на заводе что-то звенело, скрежетало, пыхтело, но разглядеть, что же там внизу, не удавалось. Весь завод был покрыт туманом, и только невероятного размера труба виднелась из-за густой пелены. Она, пронзив небо, почти дотянулась до звёзд. Весь мир рухнет, а эта возведённая богами труба устоит. Но она, словно доказывая, что нет ничего вечного, качнулась, приведённая в движение каким-то неизвестным механизмом, подёргиваясь, медленно накренилась, повернулась, замерла прицеливаясь. Из тумана показался серый, с зелёной каймой борт крейсера «Аврора».
Огромный корабль бесшумно выплывал из тумана. На самом деле даже не плыл, настолько плавно, совсем не покачиваясь, он шёл к берегу на высоких, высеченных из камня уступах, вокруг которого суетились люди. Все они что-то кричали, размахивали руками, но малокровная болезненно-бледная тишина начисто стёрла все звуки, а вместе с ними и воздух, и цвета, и время. И только крейсер с невероятно огромной пушкой медленно и неумолимо надвигался.
Люди на каменном берегу строились в замысловатый порядок и по команде поднимали винтовки. Выпуская залп за залпом, отходили. Но не только остановить, даже замедлить продвижение боевого корабля им было не по силам. Но и смириться не могли. Сменяя друг друга, не прекращали попыток.
Всё это в полной тишине, даже огонь, вырывающийся вместе с пулями из оружейных стволов, был немой, бесцветный, безжизненный. Всё как будто погрузилось под воду, потеряло четкие очертания, стремительность движений, звучность. В этом обволакивающем пространстве они могли бы вечно: одни медленно, но неумолимо продвигаться вперёд, другие, ведя напрасный огонь, пятиться.
Но взрыв перевернул неспешное течение времени. Он прозвучал, как и всё вокруг, глухо, но глубоко и так мощно, что его не только услышали все жившие, живущие и ещё не рождённые, но и ощутили трижды оббегавшую всю землю по кругу взрывную волну.
А затем вновь тишина, но уже не бесцветная и малокровная, а чёрная, как уголь, прожорливая, как зависть.
Пруд, лес, поля, небо – всё как будто растворилось в этом горестном безмолвии. Даже ветер и тот стал, как хвост мёртвой кобылы. В неподвижном воздухе было что-то терпкое, напоминающее вкус застойного озера.
Те, кого Марина видела всего мгновение назад у деревянной ограды, кому слала воздушные поцелуи, в этом беззвучии напуганные спешили куда-то, туда, где когда-то был лес и оборонительная линия, где уже ничего, кроме пустоты, не осталось. Но они совсем маленькие, одинаково тёмные бежали туда, размахивая руками, и с высоты уже не возможно было понять: бегут ли это те самые люди, звавшие к себе или от них остались лишь чёрные тени.
Им навстречу выходили осанистые военные с каменного берега, но и они были темнее самой тёмной ночи. Не нарушая порядка, с выставленными винтовками, шли в ногу. Между теми, кто бежал и кто шёл, была пустота, та, где раньше лежали леса, реки, озёра. Казалось, эту пустоту преодолеть не возможно, но она всё больше наполнялась чернотой, пока на поверхности не осталось ничего, кроме чёрной, как нефть, тишины.
Марина проснулась. На краешке её полки сидела мама, её рука лежала на лбу.
– Проснулась, доня? Температура спала. Пора собираться. Скоро будем в Кирове.
***
Мама Марины, хоть и оправдывала себя тем, что трудится педагогом, налаживает работу школ, помогает целым народам получить образование, старается во благо всего СССР!, но какие пафосные слова ни говори, как не извращай речь заумной терминологией, душу не обманешь.
А в душе она считала себя виноватой перед дочерью за то, что та воспитывается с её родителями, а не с родными мамой и папой.
И несмотря на лёгкий характер, восторженность, склонность к влюбчивости, общую полётность, эта самая дочь, в нечастые встречи с матерью, не особо проявляла радость, наоборот, как оленёнок, боязливо выглядывала из своей комнатушки и всё больше пряталась, отмалчивалась. Конечно, спустя день-другой Марину невозможно было отлепить от мамы. Но каждый раз с ней как будто заново приходилось знакомиться. Это тоже сильно печалило.
Да и несмотря на то, что немало она могла бы заполучить подарков, исполнения своих капризов, мама, желая хоть как-то заглушить внутренние терзания, всё бы исполнила. Марина ничего не просила. Видимо, сказывалось воспитание бабушки.
«Какая у меня доча взрослая, самостоятельная. Любой маме на зависть. Не ребёнок, а сплошная радость для сердца»,– говорила мама, но душу ведь не обманешь. А в душе ей было обидно, что даже такого (несчастного) способа, как подкуп, позволяющего хоть как-то загладить чувство вины, дочка не давала. За это она молча злилась и на мать, и на её внучку, возненавидела бы обеих, но слишком сильно любила.
Поэтому, когда дочурка наконец-то обратилась за помощью, немедленно, как подстреленный в жопу заяц, бросилась исполнять просьбу.
Так как Марина и её подруга Катя, больше огня боялись руководителя краеведческого музея, по совместительству учителя географии, человека более чем строгого, то и решили, так сказать, в медвежью берлогу отправить маму.
Василия Павловича Маринина мама знала хорошо. Оттого тоже не пылала желанием добровольно идти в лапы к дикому зверю.
Когда она училась в старших классах, он – фронтовик – пришёл преподавать в родную школу, и один год, она, тогда юная Зина Щепочкина, училась у Василия Павловича постигать науку географию. Как следует успела познакомиться с его крутым нравом.
Но перед дочкой никак не выдала страха и, взяв с собой вместо рогатины сумочку, отправилась добывать злосчастный и в то же время счастливый экземпляр газеты «Кировская правда» за 1967 год под № 7. где и была напечатана статья с названием «Конец кулацкой банды».
К немалому удивлению, Василий Павлович без лишних церемоний на просьбу откликнулся, был вежлив и добр. Повзрослевшая Зина Щепочкина поверить не могла, что это тот самый Пал Палкович, который по приходу в школу меньше чем за четверть приструнил даже самых отъявленных хулиганов и прогульщиков. На его уроках ученики без разрешения и пикнуть боялись. Сам он был немногословен, угрюм, безжалостен.
Тем не менее в музее её встретил человек, хоть и сильно напоминающий фигурой, размерами, движением медведя, но совершенно открытый, какой-то по-родственному приветливый.
Она раз за разом сравнивала воспоминания и реальность. Накладывала полупрозрачный портрет географа на стоящего перед ней руководителя музея. Два изображения совпадали полностью. Человек внешне был всё тот же. Даже годы, казалось побаиваясь, обходили его. Но Зина не могла поверить, что грозный Пал Палкович, гроза всех прогульщиков и приветливый руководитель музея – это один и тот же человек.
Она то по пути успела представить целое сражение за седьмой номер Кировской правды, а в итоге не пришлось не то, что вступать врукопашную, но руководитель вручил к газете в довесок ещё и картонную серую папку с надписью «Борьба за Советскую власть в Афанасьевском районе». А единственное, в чём ограничил, скорее даже попросил, так это возвратить материалы в срок.
– Через неделю вернёте? – сказал он непривычно нежным бас-баритоном. Оказалось, этот голос способен не только запугивать прогульщиков и хулиганов, спрашивать с прочих домашнее задание, вызывать к доске, громить дополнительными вопросами, но и вести обычные, вполне человеческие разговоры: – Хорошо, Зинаида Александровна?
Повзрослевшая Зина Щепочкина покраснела от этих слов. К ней уже давно обращались полным именем, у неё учеников было несколько сотен, она работу школ налаживала, была специалистом в своей области, ценилась и начальством, и коллегами, но как же приятно, волнительно оказалось услышать эти уже давно привычные для слуха слова от грозного Пал Палковича.
Мама Маринки в качестве жеста ответной вежливости сообщила руководителю об экскурсии по музею на крейсер «Аврора» и предложила поделиться записями, которые она сделала в поездке. Василий Павлович поблагодарил бывшую ученицу и уже у выхода, заметив любопытный взгляд, пояснил: «Для реконструкции раздобыли». Под самым потолком, на железных перекладинах, висели вверх тормашками новенькие солдатские шинели.
– Почистили, привели в порядок. Сейчас подсохнут и скоро будем проводить, так сказать постановку, – такими странными для прощания словами и закончили встречу.
И вот Маринка, донельзя довольная, как будто заполучила не потрёпанную газету и пыльную папку, а две коробки птичьего молока, сидит в своей комнатушке и просматривает статью, не забывая вспоминать рассказ Безносикова. Убедилась, что у учителя музыки отменная память. «Да, здесь так написано, как говорил Пётр Степанович, а вот тут подробности гибели Родиона Порубова».
Маринка перевела дух, ещё раз вгляделась в строки и начала читать:
«Спешились недалеко от хутора». Со страниц «Кировской правды», не спешно и по-военному, кратко рассказывал Жижин: «Поползли лощиной к дому кулака Корнея, где, надеялись, спал Родька. Так и продвигались, пока не залаяла собака. Тогда милиционеры быстро поднялись и окружили дом. Заспанный хозяин и хозяйка были на ногах, когда через порог переступили милиционеры. Рядом с печью лежала смятая постель.
– Где Родька? – спросили старика.
– Никакого Родьки я не знаю.
– А постель чья!?
Сомнений не было: бандит здесь. Вспугнутый лаем собаки, он, вероятно, успел выскочить во двор. Корней начал медленно щепать лучину, видно, надеясь затянуть время, чтобы главарь банды успел скрыться. С зажженной лучиной вышли во двор. Когда подошли к хлеву, послышался едва уловимый скрип и шорох. В хлеву были ясли. Кто-то, вероятно, поднялся по ним на сенник. Двое милиционеров остались в хлеву, другие стали забираться наверх. Раздался выстрел: пуля просвистела у самого уха одного из милиционеров. Родион выбежал со двора – он хорошо знал расположение построек – и бросился к лесу. После двух выстрелов он свалился».
Читая местами выцветшую газету, Марина в голос вздыхала и охала. На письменном столе перед её глазами лежали не пожелтевшие листки дешёвой бумаги местами с разводами, а живая картина.
Она отчётливо видела в ней грубые доски хлева, почерневшее за зиму сено, улавливала исходящий от него запах: прелый и немного сладкий. В углу сенника различала притаившуюся фигуру Родиона. Слышала испуганный голос старика: «Никакого Родьки я не знаю», – говорил он, не исключая, что прибьют и его за компанию. Ощущала, как он, ожидая промеж лопаток удара тяжёлым кулаком, как мог, тянул время.
Глава 9
Но сожалел совсем не о том, что приютил главаря бандитов и не о том, что слишком крепко спал и даже не о том, что, жалея старого пса, позволил тому прятаться от холодной росы под амбаром, а о том, что состарился, уже не был способен вместе с Родькой бежать в лес. Медленно щепая лучину, Корней было решился ударить одного из милиционеров ножом в грудь: «Пожил своё… А Родьке время уйти. Да и заберу, хоть одного гада с собой. Тоже, глядишь, на страшном суде зачтётся». Но руки, вопреки твёрдым намерениям, дрожали. Тогда он, оправдывая малодушие извечными: «Всё равно уже ничего не изменить. Припёрли Родьку к стене. А у меня на шее бабы да дети висят грузом тяжёлым. Меня не станет, они, по миру пойдут»,– вышел с зажжённой лучиной на двор.
Марина видела и чахлый, непостижимым образом не гаснущий огонёк лучины. В его покачивающихся отсветах различала вытянутые, с глубокими морщинами, щетинистые лица милиционеров с блестящими, как у учуявшего дух барсука ягдтерьера, угольками глаз.
Всё это Марина практически осязала, водя пальчиком по лежащей на письменном столе живой картине. Смотрела не только своими глазами, но и спрятавшимися за шторками любопытными глазками детей, полными тревоги глазами их матерей, озверевшими угольками милиционерских и побелевшими от времени кулака Корнея и даже прозевавшего приход чужаков подслеповатыми спящего под амбаром пса.
Только глазами Родиона Порубова взглянуть не могла. Он упрямо скрывал то, что видел в последние минуты.
Куда он бежал в лес, на болота или куда-то дальше? Видел непроглядную стену из многовековых деревьев или неизвестный свет за ней? Оставалось неизвестным.
Открыв же картонную серую папку, Марина и вовсе обалдела. С первых страниц на неё обрушились незнакомые слова: «волисполком, уисполком, уездный комитет, контрибуция. Названия деревень, сёл, рек тоже вызывали недоумение, никак не запоминались, какие-то нерусские названия: Зюздинский район, Кувакуш, Рагоза, Колыч, Илющи, Таскаевы, Шомша… Только «Рагоза» немного, но была для Маринки знакома, читала про эту деревню в книге, да ещё вслух, бабушке. Странно, на первых четырёх страницах не было ни единого упоминания о Родионе Порубове, а встречались торговец К. Братчиков с сыном Петром. Недоумевала, что события описываются те же самые, о которых она читала в книге «Вахта мужества».
Маринка водила пальчиком по строчкам и пыталась разобраться в названиях, событиях: «Вот событие в Рагозе. Всё одинаково, только в книге приписана гибель отряда Соболева Р. Порубову, а здесь, в папке, – К. Братчикову. Почему так?»
Она перелистала папку, в которой оказалось всего 14 страниц мелким подслеповатым шрифтом, напечатанным с помощью пишущей машинки на серой бумаге. Шрифт ей совсем не понравился, тусклый, серый, местами плохо напечатанный. А вот обложка яркая, красной тушью выведено название. Имя Родиона Порубова нашлось только на пятой странице: «Следственная комиссия, выделенная из состава отряда, установила, что организаторами кулацкого восстания были бисеровский торговец К. Братчиков и его сын Пётр. Но оба они скрылись и выбыли за пределы Зюздинского края, до прихода отряда. Сумели скрыться и некоторые активные участники восстания, как Родион Порубов, подпоручик Зверев и другие».
Наконец встав из-за письменного стола, Марина, точно какой-нибудь сыщик, погружённый в раздумья, начала прогуливаться по свой тесной комнатушке. Мурлок, словно любуясь её юной фигурой, прикрытой лишь синим сарафаном в жёлтый горошек, нежно замурлыкал и, потягиваясь, попытался подцепить подол сарафана острым коротком.
– Значит, Родион Порубов – активный участник восстания,– сказала она коту. Кот замурлыкал ещё громче и, растянувшись в неге, занял почти весь диван. «В этом нет сомнений»,– подытожил юный сыщик. «Но как понять, где правда скрывается?» Мурлок, не желая отвечать, продолжал мурлыкать. Тогда Марина решила посоветоваться с мамой.
Мама к тому времени уже договорилась покататься на лодке по заводскому пруду, даже, чтобы не сгореть на солнце, элегантный зонтик в рюшечках раздобыла, но вновь сдавшись непобедимому угрызению совести, согласилась помочь дочери.
До самого вечера вчитывалась в заметки, записки, статьи, статейки, книги и книжонки:
– Мариночка, газета вышла в 1967 году. Сколько лет Жижину? Давай поразмыслим. Он же ликвидировал банду в 1922 году. Ему тогда было, наверняка, больше двадцати-двадцати пяти лет? Скорее всего под тридцать. А к 50-летию Советской власти уже престарелый, с памятью проблемы стали. Мог что-то напутать?