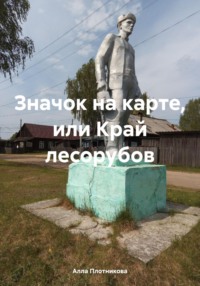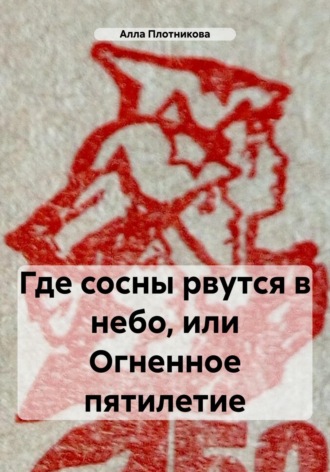
Полная версия
Где сосны рвутся в небо, или Огненное пятилетие
Глава 5
7. В гостях
Мы сыны батрацкие, мы за новый мир,
Щорс идёт под знаменем – красный командир…
Озаряя сонную улицу Пионерскую, напевала Маринка. Её верная подруга, возможно, подпела бы, но не зная слов, она только удивлялась:
– Откуда ты только знаешь эту песню?
«Эй-эх, красный командир!… В голоде и холоде жизнь его прошла. Но недаром пролита кровь его была!»
Понимая тщетность своих попыток разговорить подругу, Марина если была в восторженном настроении, то становилась сама не своя: без конца пела, дурачилась, смеялась, Катька вынуждена была только ожидать окончания выступления. Благо, песня короткая да и до дома с номером 11 оставалось рукой подать.
Две закадычные подружки направлялись в гости к Безносикову Петру Степановичу, руководителю музыкального кружка. Мила, старшая сестра Кати, уже второй год училась в музыкальной школе по классу фортепиано и, готовя для концерта ко дню Великой Октябрьской революции номер с песней про Щорса, отправила младшую сестру к Петру Степановичу за нотами. Маринка вызвалась её сопровождать:
За кордон отбросили лютого врага,
Закалились смолоду, честь нам дорога. Эй-эх!
Руководитель музыкального кружка жил в небольшом домике с женой. Но состоялся он далеко не только как хозяин, муж и отец, (С супругой вырастили и воспитали троих детей. Четвёртый, взятый из детдома, к несчастью, не сумев оправиться от пережитой блокады, умер. Его глава семейства даже не успел повидать: был в плавании), но и как музыкант – играл виртуозно на балалайке, гитаре, гармошке, баяне, аккордеоне. Так ещё и ярко проявил в себе эффект наставника: организовал струнный оркестр, ансамбль баянистов и большой детский хор. После войны Пётр Степанович работал завучем в детдоме Омутнинского ЛПХ, учителем пения в Песковке во всех трёх школах, вёл музыкальный кружок в ДКМ (Дом культуры металлургов). Стараниями Безносикова «вся Песковка пела и плясала». Брал на обучение всех желающих: и детей, и взрослых, больше всего любил «выявлять солистов».
К каждому обучающемуся проявлял индивидуальный подход. И это, несомненно, давало результаты. Результаты потрясающие. В захолустной глубинке население тянулось к искусству.
Хор создан. Пели партии на четыре голоса. О чём это говорит? О том, что человек знал, как это практически сделать. Гимн Песковки, созданный Петром Степановичем в 1965 году, исполнялся постоянно на праздничных концертах в исполнении местного хора.
На занятиях в музыкальном кружке при ДКМ царила атмосфера радости открытия, дружелюбия, защищённости… По воскресеньям собирались на сольфеджио. И по службе и по призванию он веселил детей на праздниках.
Так ещё и наличествовал талант корреспондента (правильно говорят, талантливый человек во всём талантлив): инициатива Безносикова в 1942 году по усыновлению детей-сирот стала поистине всенародной.
Конечно, фундамент к такой жизненной позиции был заложен в семье. Пётр Степанович родился в 1914 году. Семья, в которой он рос и воспитывался, была от природы одарена музыкально. Его отец в свободное время любил играть на гармошке. У него и учился мальчик искусству осваивать инструмент.
А окончательно сформировался деятельный и неугомонный характер, вероятно, во время службы в армии. Служил в Приморье командиром взвода (средний командир ВВС Тихоокеанского флота). Одиннадцать лет службы не могли не нанести отпечаток на дисциплинированность.
Символично, что он живёт на улице Пионерской. Пётр Степанович в посёлке был одним из первых пионеров, произошло это событие в год смерти Ленина. Как давно это было, почти пятьдесят лет тому назад. Петька, детское прозвище Безносикова, давно уже превратился в Петра Степановича, сменил пилотку на шляпу, пионерский красный галстук на черный в итальянском стиле, белую рубашку на модную водолазку, а тёмно-синий пиджак на каштанового цвета приталенный жакет (не по своей воле, добавил образу солидности, при помощи очков и седины). Но пионерский задор и энтузиазм не стал ничем заменять. Остался навсегда настоящим первопроходцем.
Сама же такая символичная улица внешне не соответствует названию. Улица Пионерская совсем узенькая, как будто построена каким-нибудь всегда нищим марокканцем, а не советским человеком. Впрочем, несмотря на название, построена она задолго до появления Советского Союза, а значит, и не совсем советским человеком. И вся она какая-то неровная, петляющая, путаная, впрямь, больше подходящая для жизни худосочных берберов, чем для приземистых вятчан. Однако живут на ней коренные песковчане. Оттого и преобладают здесь не белый и голубой – любимые цвета шумных марокканцев, а всё больше зелёные и серые, – любимые цвета партизан.
Наверное, для страны, где земли столько, что сколько ни ходи не истопчешь и десятину, удивительно наличие таких улочек, где и на автомобиле проехать невозможно, но зато она чистая, заповедная, какая-то по-волшебному сонливая и уютная. По настроению и расположению противоположная улице Пионерской – Крестьянская, которую называли во времена становления завода Хомяцкой слободой. Две параллельные улицы, разделённые десятком метров, – и два совершенно разных мира. Хомяцкая слободка, улёгшаяся у пруда, всегда многолюдная: и когда в землянках теснились, как кроты, в каждой семье по десятку детей, и потом, когда зажили в деревянных домах, наполненная визгливыми голосами, шумом жизнь, раньше ржаньем коней, потом урчанием автомобильных двигателей.
И Пионерская, занявшая высокий угор, примыкающая к школе, совсем узенькая, тенистая и тихая, но какая-то как из сказки.
Наверное, именно на таких улочках, где от тесноты все либо попереубивают друг друга или породнятся душами, и проживают волшебные существа, наделённые даром сложения былин и песен. Ну, или берберы. Кто знает, возможно, и они, невзирая на бедность, сочиняют и поют.
– Лихо мчится конница, слышен стук копыт,
Знамя Щорса красное на ветру шумит, – трижды пропев последнюю строчку, Маринка закончила выступление и наконец ответила подруге:
– Конечно знаю! Я часто слушаю эту песню на дедушкиной пластинке! Катя улыбнулась обожаемой подруге, и девочки постучали в калитку дома под номером 11. Им открыл сам хозяин. Выставил на веранду две коробки с нотами.
И девочки углубились в работу. И пока Марина по десятому кругу мурлыкала песню про красного командира, её подруга отыскала, в одном из песенных сборников, ноты за авторством Блантера.
Потом жена Петра Степановича пригласила чаёвничать. «Песня о Щорсе» и чрезмерно крепкий чай у учителя музыки вызвали воспоминания о Гражданской войне:
– Когда Колчак напал на наш посёлок, – почему-то посмеиваясь, рассказывал Безносиков. Я уже большенький был, мне шестой годок пошёл. Хорошо помню их форму. Форму колчаковцев, синюю с лампасами, шли они на лыжах… Я в окно смотрел… Снегу много было, хотя апрель месяц настал…
Восторженное певучее настроение Марины было вытеснено желанием задать волновавшие её вопросы, на которые этот опытный человек, бывший военный моряк, успевший избороздить и воды Тихого океана, и в войне с японцами поучаствовать, и в плену побывать, и быть реабилитированным, и получить награды, и даже заставший годы Гражданской войны, конечно, знал ответы.
Маринка осмелела и спросила: «А про Родиона Порубова что-нибудь знаете, слышали, может быть?» Безносиков поправил очки, ласково с секунду поглядел на девочку, отхлебнул горячего чаю и, широко улыбнувшись, начал:
– Слышал. Как же! Ох, разбойник, и задал всем острастки этот Родька-то твой!
Марина почему-то от этих слов покраснела.
– Большая банда у него была, крепкая без малого полтысячи. Конечно, я сам не видел этого главаря, маленький совсем был. Слухами только питался. Дня не проходило, чтобы кто-нибудь не рассказал, как намедни Родькина банда где-то гуляла. А подробности, с именами и названиями, узнал уже сильно позже из «Кировской правды» от 68 или 69 года, – Пётр Степанович протёр лоб платочком, поблагодарил жену за чай, достал папиросу из портсигара, помял её, вложил обратно в портсигар.
– Верить тому, что напечатано в газетах, вопрос другой. Статья называлась, кажется, «Конец кулацкой банды». Как корреспондент, подтверждаю, заголовок сильный. А вот, что там говорилось, конечно, не дословно, но суть передам. Дело было так. С востока двигалась армия Колчака, и банда Родьки примкнула к этой армии. Потом Колчака изгнали, а Родька не унимался. Продолжал терроризировать население.
Пётр Степанович помолчал, стараясь припомнить давно прочитанное, затем его лицо озарилось улыбкой: «Всё здесь, на месте!» – постучал он указательным пальцем по виску.
– Так вот Глазовский уезд выдвинул на должность начальника милиции Ивана Кондратьевича Жижина, в село Афанасьево. Он то и разработал операцию по устранению Родькиной банды. Бандитов было ловить нелегко, зимой они коротали время в глухих починках, а в летние ночи грабили, убивали. – Безносиков вновь помолчал, – но на этот раз, но на этот раз, – размышляя, произносить ли последнее слово:
– Что скрывать, насиловали. Однажды милиционерам удалось напасть на след троих бандитов, двоих они убили, а третьего привели на допрос к начальнику милиции. И вот этот бандит выменял свою жизнь на помощь по указанию места, где скрывался главарь. Сорок вёрст преодолели милиционеры со связанным пленным. Приехали и увидели дом кулака Корнея. Там и скрывался Родька. Но сдаваться главарь не собирался, побежал к лесу, тут его и настигли пули.
– А потом что? – пропищала впечатлительная Маринка. Катька же онемела.
– Отряхнулся и пошёл по своим делам. Что, что, умер, конечно. Тяжело ранили его, он там же у леса и скончался. С его гибелью банда развалилась. То есть план Жижина сыграл. Полностью банда была ликвидирована. Случилось это в октябре 1922 года. Точную дату уже не помню, а может быть, её и не было в статье. Вот, девочки, я вам рассказал, что запомнил. А газета, наверно, есть в краеведческом музее. Знаете руководителя музея Василия Павловича?
Девочки переглянулись. Василия Павловича по прозвищу Пал Палкович знали и боялись все ученики.
– Вот у него надо спросить.
Катя, находясь ещё под впечатлением, робко произнесла: «А как этому главарю удавалось так долго скрываться? Если они грабили, убивали…»
– Не знаю, девочки. Я вам рассказал, что было написано в газете. Лицо Безносикова вновь озарилось улыбкой. А как было на самом деле… Кто ж его знает. Кто ж знает, как было…
7. Вечер с опарой и Гражданской войной.
– Внученька, ты что делаешь? Читаешь? Посиди со мной. Я буду тесто заводить. А ты мне почитай.
– Маринка отвлеклась от книги, прислушалась к бабушкиным словам, послушно вылезла из-за стола и пошла на кухню. Бабушка замешивала тесто. Сеяла муку плавными округлыми движениями. Маринка залюбовалась.
– Что же ты, внученька, читай. К нам в гости мама с папой едут и мой сын. Твой дядя Илья.
Маринка невольно заулыбалась, как хорошо, а то она так соскучилась по маме!
– Бабушка, я про Гражданскую войну читаю, тебе не понравится.
– Читай, а то спать хочется, а надо тесто поставить для гостей дорогих.
– Чтобы продовольственная политика была успешной, необходимо беспощадно ударить по укрывателям хлеба, кулакам, самогонщикам. И для этого местные Советы очистить от эсеровских и кулацких элементов.
– Да что ты так читаешь? Громче!
И Маринка с выражением, как будто она в классе перед учителем, продолжила: «Совместная работа органов советской милиции и ВЧК летом 1919 года помогала бороться с преступностью. И в Вятской губернии действовали бандитские шайки. Чрезвычайная Комиссия и милиция пытались их ликвидировать совместными усилиями. Например, в Омутнинском районе больше года орудовала хорошо вооружённая банда под предводительством Родиона Порубова (Родьки). В состав этой шайки входили дезертиры, уголовные преступники, кулаки, царские офицеры. Бандиты занимались грабежом. Они грабили крестьянские хозяйства, кооперативные лавки, склады с продовольствием. Вместе с ними…
– Ну-ка, ну-ка…– встрепенулась бабушка. – Повтори.
– Они грабили крестьянские хозяйства, кооперативные лавки, склады с продовольствием.
– Там так написано?
– Да. Дальше читать?
– Читай. Ну и ну! Что написано!
– Местное кулачество организовывало саботаж сдачи хлеба государству, местный Совет в Афанасьево также разогнало. Красногвардейский отряд Глазовской ЧК банда уничтожила. Соболева, что был командиром отряда заместителя председателя Глазовского уездного исполкома, бандиты живым зарыли в землю.
Бабущка оторвалась от замеса теста, повернулась к Маринке и сказала: «Как язык не отсох, такое писать!»
– Бабушка, ты про что?
– О грабеже. Еще неизвестно, кто кого грабил… Милиция что ли этот хлеб выращивала? Милиция?
– Борьба с шайкой осложнялась тем, что бандиты знали о готовящихся операциях: в деревнях жили родственники, которые им об этом и сообщали. Местные жители тоже участвовали в ночных грабежах.
– Так и написано? Участвовали?
– Да, бабушка. Продолжать?
Бабушка кивнула.
– В распоряжении преступников были краденые лошади, и они могли быстро уходить от преследования.
– Милиция что ли лошадей выращивала? Да что это за книга такая? – в сердцах воскликнула бабушка.
– Бабушка, не читать?
– Читай пока. Я ещё не закончила возню с тестом.
– Для ликвидации банды в Омутнинский район направили бывших партизанов, чтобы они помогали милиции. Милиционерам Сюзеву и Порубову улыбнулась удача: в их руки попал помощник главаря шайки Ларион Порубов. Он рассказал о месте, где находятся другие бандиты. Умелый руководитель И.К Жижин успешно провёл операцию по поимке бандитов. В доме кулака Корнея на хуторе Верхнее Долье убит главарь банды Родион Порубов при попытке к бегству.
– Погиб, погиб…
– Кто, бабушка?
– Да это я так! Свою работу я закончила. Пусть теперь опара трудится.
– Бабушка, тут ещё предложение осталось. Дочитать? После ликвидации этой банды установилась нормальная жизнь и работа советских органов власти в Омутнинском районе.
– Пойдём, внученька, спать-почивать. Завтра мне рано вставать, буду печь растапливать да стряпать…
Глава 6
***
Сквозь сон среди ночи Маринка проснулась от запаха табака… Она поняла, что приехал дядя – бабушкин сын. Слышалось воркование бабушки: «Илюшенька, сынок! Как ты давно не был. Я соскучилась…»
Днём на поезде приехали папа с мамой. Радости с обеих сторон не было предела. Под вечер пришли бабушкины сёстры – Антонина и Афанасия. Маринка про себя отметила, что бабушкины сёстры все небольшого роста, голубоглазые, русоволосые, соседи их называли баба или тётя Тоня, Фоня, Нюра. А вот дед и дядя Илья, в том числе и мама – кареглазые, черноволосые и роста хорошего, выше среднего. Дед был высокий, наверно, из-за худобы таким казался, а вот дядя Илья немного «подкачал», но зато у него была выправка военная. Папа невысокий, быстрый, подвижный, но с таким родными синими глазами, как у самой Маринки!
А вечером за столом, накрытым вязаной скатертью и уставленной со своего огородного хозяйства различными закусками, после рюмки выпитого коньяка дядя Илья ударился в воспоминания о Залазне:
– Мне было пять лет, когда мы уехали оттуда, и я хорошо помню, как мне было там хорошо. Как сказочная птица раскинула свои крылья – улицы по обе стороны пруда – село Залазна. Словно глаз пернатой блестит водоем, а из него струится и переливается речка-хвост. Вот где-то я прочитал, и мне понравилось, поэтому и запомнил.
– Племянница, знаешь, почему названо село Залазна?
Маринка навострила уши, не забывая однако тянуться рукой за шанежкой из томлёной рябины.
– Селение получило название Залазна: то ли по названию реки, на которой находилось, то ли само селение дало имя реке. Этнографы относят слово «лаз» к славянскому языку и переводят как «поле среди леса», «пашня», «новинная земля».
Маринка заинтересованно наблюдала за родственниками. Бабушка слушала, улыбаясь помолодевшим лицом. Только мама с папой не принимали в этом участия. Что это с мамой, она же родом из Залазны! Ну, папа-то понятно: он верховский, как часто повторяла бабушка.
Дед умело вставлял в дядин рассказ свои реплики: «Думается не будет ошибочным перевод слова «залазна» как «заимка» – расчищенное от леса место».
– Да-да, может быть и так! А ещё я помню прочитал, что по выплавке чугуна Залазна до середины девятнадцатого века превосходила Омутнинский завод!
Дед уточнил: чугун на телегах и по воде возили на Буйский и Шурминский заводы Мосолова.
– Да-да, Мосолов основал Залазнинские заводы в 1772 году.
– Мосоловы были туляками, там же имели заводы, из тульских же мест набирали своих людей, – дед метко вносил уточнения в сведения своего сына.
Тётки встрепенулись: «Да. Наши предки приехали из Тульской губернии со своим самоваром».
Маринка только успевала переводить глаза до на одного, то на другого рассказчика.
– Владелец Залазнинского завода Мосолов в 1840-е годы всерьёз занялся расширением производства. Заработала Нижнезалазнинская фабрика, была пущена Белорецкая домна.
– Было времечко! А какая была ярмарка, Залазнинская пристань на реке Белой была средоточием товаров. Выгодное расположение завода на кайско-глазовском тракте приводило в Залазну купцов.
– Кроме ярмарки, каждую неделю базары были…
– Там же Мосолов поставил лесопилку и мельницу для размола муки, это место сейчас называется Кестым.
– Помню церковь во имя Спаса Нерукотворного, Волостное правление…
Дядя налил в крошечные рюмки всем сидящим за столом коньяк, Маринке – квасу, поднял рюмку-напёрсток и сказал: «За здоровье присутствующих!» Выпил, закусил шоколадом, потом сказал, обращаясь к деду: – Отец, напомни мне, я запамятовал, от кого мы род ведём? Имя ещё такое необычное…
– Наш род Щепочкиных идёт от Ермолая, сказывали, что он с семейством прибыл в Залазну на завод из тульских мест. На новом месте в Залазне лет двадцать прожил. Я от него веду род в пятом поколении.
– И ты всех по именам знаешь?
– Да нет. Это имя сохранилось, поскольку необычное. Отца моего звали Алексей Семёнович, умер он, когда мне было двадцать два года, простудился и отдал богу душу, а родился он в 1870 году. Отец мой взял за себя Анну Семёновну, кухарку из Песковского завода. Дедушку Семёном звали, его только по рассказам знаю. У нас лошади хорошие, справные были. И вспахать надел, и сено привезти, и дрова, и уголь. Да, дед мой извозом занимался. На завод руду, уголь возил. Вот этим семью и кормил.
– А зачем мы из Залазны уехали?
– Завод приказал долго жить. Людей стали в колхоз сгонять, надо было со скотом идти туда. А тут прошёл слух, что железную дорогу проведут. Я думал, что через Залазну, но … дорогу от Яра до Кирса стали тянуть и дальше на север. А бабушка твоя раньше песковская была – вот и решили в Песковку махнуть. Сперва я один уехал. А года через два и вы все с матерью и тёткой Фоней приехали. Перво-наперво баньку купил, огляделся, участок выделили, потом лес разрешили на строительство взять. Вот с помощью лошади и возил брёвна на дом. Через некоторое время, лет этак через двадцать, этот дом перекатали, чтоб дольше стоял, на века. Печь глинобитную сделали, чтоб в доме тепло было. Бурёнушку завели – сеновал пришлось с яслями строить. Амбар нужен? И амбар появился…
– Ну, всё дом построен, нарисовали – будем жить, – дядя рассмеялся и добавил командирским тоном:
– Давайте споём «Когда б имел златые горы»!
И зазвенели голоса родственников, Маринка старательно подпевала, она эту песню постоянно слушала на звучащей пластинке…
Когда б имел златые горы
И реки, полные вина,
Всё отдал бы за ласки, взоры,
Чтоб ты владела мной одна.
«Не упрекай несправедливо,
Скажи всю правду ты отцу.
Тогда свободно и счастливо
С молитвой мы пойдем к венцу».
Ах, нет, твою, голубка, руку
Просил я у него не раз.
Но он не понял мою муку
И дал жестокий мне отказ.
Отзвучали последние такты песни, и дядя обратился к Маринке и спросил, чем она занимается.
– Я собираю материал для музея о местных героях Гражданской войны.
– Мой брат Николай сгинул в это время, – вставила бабушка реплику.
– И ничего до сих пор неизвестно, где его косточки лежат, – встряла Антонина, старшая сестра бабушки.
Кто Маринку потянул за язык? Но она вдруг брякнула: «Дед Николай был героем Гражданской войны?»
Воцарилась такая тишина, что слышны были на улице крики игравших детей… Взрослые переглянулись.
Бабушка встрепенулась первой: «Иди, внученька, играть, негоже тебе тут со взрослыми сидеть».
8. Маринка, Мурлок и тетрадь
Маринка прошла в свой закуток, взяла тетрадь с Буквами «ЗЩ», захватила карманный фонарик, спустилась через веранду по ступенькам, вышла во двор и по приставной лестнице залезла на сеновал. Около своих ног почувствовала шевеление и что-то мохнатое потёрлось о её голую ногу.
Мурлок, несмотря на отсутствие глаза, был страхом едва ли не всех поселковых котов. Огромный и чёрный, как полярная ночь, он устраивал настоящие засады на молодых котиков, которые только начинали знакомиться с любовной жизнью, подстерегал их в самых неожиданных местах, чтобы знали: за нежное мурлыканье нужно платить не только ответными песенками, но порой и клочками шерсти с собственной шкуры. Нападал без предупреждения, не тратя время на фурчание, когтил так, что те надолго забывали о существовании на свете белом ласковых кошечек и старались лишний раз не выходить из дома.
Не забывал приходить в гости и к старым знакомым, которых не раз уже бил, и, усевшись на деревянный столб, забор или прямо на крыльцо, начинал своё громкое и противное урканье, словно говоря: «Пока я не нагуляюсь, чтобы и близко с Муркой не видел». Опытные коты прекрасно понимали это предупреждение, редко решались оспорить. С самой ранней весны, когда снег ещё не растаял, чёрный пират, уже стараясь не пропустить ни одной кошки, бегал по всей Песковке. Благо посёлок не шибко крупный. Всего тысяч семь жителей, не больше.
Иначе Мурлок вовсе не бывал бы дома, тогда и Маринка, высыпалась, быть может.
Если бы не Мурлок, число черных котов в поселке было бы значительно ниже. В один момент черных кошек было столько, что люди забыли о приметах, связанных с ними. Дорогу чаще всего перебегали кошки именно этого окраса. Разбойник завладел не только улицами Катаева, Владимировой, Школьной и другими близлежащими, но не забывал наведаться даже за деревянный забор чугунолитейного завода, а ведь его корпуса находятся за плотиной.
Обходя Верхний пруд, образовавшийся благодаря этой самой плотине, он не обращал внимания на береговые изгибы, причудливо-острые, напоминающие расколотую шахматную доску. Природа не создаёт таких строгих узоров, её орнаменты всегда гибкие и щедрые, без каких-либо границ.
Но одноглазый кот, конечно, спешил за цеха, где всегда что-то скрежещет, грохочет, пыхтит, не рукотворными водоёмами любоваться, а в гости к местным, трёхцветной масти кошкам, род которых, по преданиям восходит к Луизке, плодовитой твари с нелепым обрубком вместо хвоста, которую основатель завода, купец Курочкин, привёз с собой из Великого Устюга аж в 1772 году. Вот оно, дьявольское наследие. Сколько лет прошло, а кровь всё та же. Не бьётся масть. И даже для Мурлока эта задача не посильная, как ни пыжься.
И видимо понимая это, покидает он завод и, не жалея лап, торопится на свидание к не таким родовитым кошкам, расправляя хвост и раздавая на бегу тумаки тем котам, которые не успели укрыться. Вот ведь забавно, черный кот одним глазом так внимательно следил за своими владениями, что даже муравьиный след не ускользнёт от его бдительного взора. Он точно глядит сверху, с неизвестного высокого столба, сразу на всю Песковку.
На просёлочные дороги, извивающиеся среди холмов, на двускатные крыши деревянных домиков с почерневшими от времени заборами, на палисадники, в которых щедро раскинулись кусты черёмухи, жимолости и сирени, на живописные рябины, растущие вдоль берега Вятки, на завод с его цехами, откуда постоянно слышны звуки работы: пыхтение, уханье и звон, на дымящуюся высокую трубу, устремляющуюся в серое весеннее небо, на берёзовую рощу и прилегающий к ней пруд, который служит украшением посёлка, куда в летние месяцы он бывало приходил рыбки покушать. Местные рыбаки не забывали угостить чёрного, как зрачки негра, кота (для получения гидроэнергии в устье Песковки в 1771 году возвели плотину длиной больше пятисот метров, в результате чего образовалось водохранилище, или так называемый «Верхний пруд», с зеркальной площадью воды до полутора квадратных километров, глубиной в русле реки от трёх до семи метров), на благоухающие просторы лугов, на вершины кустарников, на возвышающуюся на холме двухэтажную школу, построенную из бревен разобранной церкви, на памятник с пятиконечной звездой, окружённый деревянной оградой и скрывающий братскую могилу, и на рощицу тополей перед школой, высаженную выпускниками-старшеклассниками.