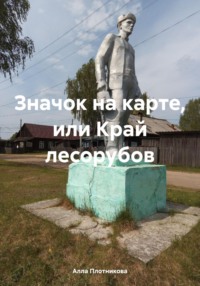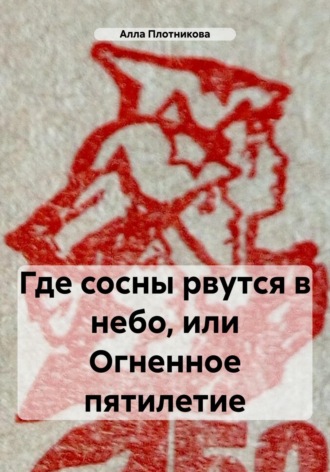
Полная версия
Где сосны рвутся в небо, или Огненное пятилетие
«Да и когда рассказываешь одну и туже историю сто тысяч раз, – перейдя к мечтательной интонации, продолжала она: – То детали сами собой обтачиваются друг о друга, приобретают покатые, приятные для слуха очертания. А Жижин, как герой, ликвидировавший банду Родьки, свою историю наверняка рассказывал тысячи раз. Вот она и пообтесалась. А у жизни всё не так, края у неё грубые и острые, режущие слух».
Мама вздохнула: «Именно поэтому, доча, всегда нужно искать первоисточник, а пересказам доверять в последнюю очередь».
Марина внимательно смотрела на маму. Но думала не совсем о сказанном: «Бабушка тоже уже престарелая. Но с памятью проблем нет. Пробовала я утянуть у неё блин, когда она отвернулась, так заметила же. Ещё и отругала. Пока всё не испечёшь, есть нельзя, сказала… Даже блины и те у неё посчитаны. Что и говорить об остальном. Всё у неё под счёт и на своих местах, каждая крупинка, пылинка хранится в памяти и никогда не перепутается». Но маму перебивать своими мыслями не стала. В маленькой комнатушке им и вдвоём было тесновато. Впусти туда ещё и мысли о похищенных блинах и вовсе дышать стало бы нечем. Чтобы хоть как-то разместиться, сели на диван против друг друга, посередине разложив материалы. Газета занимала центральное место, вокруг неё книги, вырезки, черновики, листы старые и новые. И хоть Марину очень волновала судьба Родиона Порубова, временами она, залюбовавшись мамой, теряла нить рассуждений. Отмечала, что шеей они похожи. У обеих она длинная и утончённая. И плечами, пожалуй, с красивыми линиями ключиц. В остальном мама была гораздо красивее. Высокая, стройная, с длинными изящными ногами. Так ещё и глаза карие, круглые, выразительные. Волосы длинные, волнистые, блестящие. Если бы не выцветший от множества стирок хлопчатобумажный халат, когда-то, видимо, оранжевого окраса, то невозможно было бы отличить советскую женщину от греческой богини. У Марины же и ножки чересчур полные и ростом не вышла, в бабушку, и фигура— кубышка. Так ещё и глаза, голубые, но не цвета неба, а скорее бледной волны. И волосы, которым бабушка не давала воли, в лучшем случае прикрывали уши, не ниже. Марине почти до слёз стало обидно. Ну, вот почему я не в маму, спрашивала она себя.
А мама, увлекшись повествованием, не замечала грусти в глазах дочери: «Смотри, вот эта папка из музея «Борьба за Советскую власть в Афанасьевском районе» написана в 1958 году. Скорей всего, здесь история правдивее. Названия населённых пунктов указаны, время суток, фамилии».
Мама поправила очки. Взглянула через дверной проем на кухню, где, упёршись о лавку, стоял элегантный зонтик в рюшечках. Из кухни одним глазом, не моргая на них обеих, недовольно глядел Мурлок. Не мурлыкал.
«Про Соболева в папке что написано?– окончательно распрощавшись с лодочной прогулкой, продолжила мама: – Что он сразу погиб: «При первых же разрывах были убиты Соболев и его ямщик, ранен красноармеец Кузовлев». А в газете? Здесь только подробно расписано, как ликвидировали банду. В книге «Вахта мужества» читаем: «Местное кулачество организовывало саботаж сдачи хлеба государству, местный Совет в Афанасьево также разогнало. Красногвардейский отряд Глазовской ЧК банда уничтожила. Соболева, что был командиром отряда заместителя председателя Глазовского уездного исполкома, бандиты живым зарыли в землю».
Мама, собираясь с мыслями, помолчала несколько секунд. Продолжила учительской интонацией: «Видишь, какое разночтение? А ещё я обратила внимание на фамилию красноармейца Кузовлева, или Касымова, или Козымова. В трёх местах – по-разному. Ну, это говорит о том, что этот красноармеец был не местный».
– Доченька, а теперь давай взглянем в сборник «Выросли мы в пламени, в пороховом дыму» и посмотрим воспоминания песковчанина в главе «Комсомол Северо-Вятского горного округа в боях за Советскую республику». Мама открыла сборник на закладке: В.А. Фофанов вспоминал: «Летом 1918 года в соседних с нашим заводом волостях —Афанасьевской и Бисеровской – торговцы Братчиковы и Родион Порубов по кличке «Родька», при участии царских офицеров и местных кулаков, организовали саботаж хлеба государству. В помощь волисполкомам был сформирован красногвардейский отряд под командованием члена уездного исполкома тов. Соболева. Отряд прибыл на место и приступил к действию. Бандиты в местный праздник – Ильин день – сделали подложный вызов отряда, сами же по дороге близ дер. Рагозы устроили засаду и напали на него. Отряд, не ожидавший нападения, был разбит. Раненого Соболева бандиты еще живым зарыли в землю, 4-х красногвардейцев убили во время боя, а одного красногвардейца Николая Козымова взяли живым, раздели догола, водили по селу Афанасьеву, били и издевались над ним. Наконец, не доходя до кладбища, в д. Лозанево зарыли героя также живым в землю, а в могилу забили осиновый кол».
– Как будто для красного словца вставлено, что Соболева живым закопали в землю. К тому же и название деревни другое: «По протороченной дороге отряд быстро достиг деревни Ожегины, перебрался через реку Колыч, миновал деревни Таскаевы и Илющи. От реки Шомши дорога пошла в гору, и лошади перешли на шаг»…
Мама продолжала читать, листала книги, указывала на противоречия, спрашивала и сама же отвечала. Но Марина уже не слышала родительских изысканий.
Перед её глазами стоял неизвестный полуголый мужчина в страшных ссадинах, порезах, кровоподтёках, с выбитыми зубами со страшными лохмотьями вместо губ, с переломанными руками, изувеченными пальцами. Грязный, замёрзший, но ещё живой. Ещё надеющийся на спасение. Чей-то сын и муж. Брошенный в яму, заживо засыпанный землёй. И напротив Родион Порубов, всё такой же чистый и красивый, каким был во сне, высокий, с густыми черными волосами, зачёсанными на бок, парень с длинными, как стрелы, ресницами, с не по-мужски пухлыми губами, с добрыми смеющимися глазами.
***
Кто такой этот Парья, Марина не знала. Возможно, это имя блинного божества, которого призывала бабушка. Или наоборот, демона. И тогда не призывала, а отгоняла. Не зря же она так машет сковородками. Конечно, чем витать в догадках, разумнее было бы спросить у бабушки. Но почему-то было страшно. Неизвестно ведь, что это за зверь такой, этот Парья.
В доме пахло ванилином, свежей мукой, жжёным сахаром, тем самым ароматом леденцов-петушков, а ещё едва уловимым ласковым духом русской печи. Ощутив однажды который, уже не забудешь, и прежним не будешь, как будто, вдыхая его, вдыхаешь и доброту самого доброго из богов.
Если бы наш мир испёкся не в горниле большого взрыва, а под глиняным куполом русской печи, то он был бы намного приятнее. Потому как невозможно оставаться злым, ощущая нежное её тепло.
И блины, которые благодаря стараниям кухарки, выходили почти прозрачные, тонкие, как перистые облака. Получив от горячих углей золотистую корочку, внутри оставались нежными, такими воздушными, что заполучи их паучки-кругопряды, то в бабье лето по ветру путешествовали бы не на собственных паутинках, а на этих невесомых, как сны младенцев, блинах.
Но у бабушки всё было под счёт. Не то, что каким-то паукам, но и Маринке, завладеть хоть одним блинчиком, не удавалось.
Хотя она и старалась… Терпеть, пока израсходуется всё тесто, было невозможно. Но как говорила бабушка: «Колды работа не закончена. Есть – грех. Против бога вражда».
Даже Мурлок, тоже большой любитель бабушкиных блинов, был вынужден ждать, а он ведь, если в бога и верил, то в какого-то своего, кошачьего, с длинными усами, кисточками на ушах, хвостом толстым и пушистым, как у скунса, с глазами зоркими, точно у сокола, с охотничьими угодьями, не в три, а в тридцать три километра, способного любую, самую матерую крысу задушить. В такого бога верил Мурлок. Если верил. Однако с бабушкой несмотря на то, что её бог крыс не душил, вообще, никаких, даже самых хворых и хвоста, самого драного, не имел, спорить не решался. И сидя на скамеечке рядом с Мариной, подбадривал и себя, и её песней.
А Марина чаще всего читала вслух. В основном свои книги, реже газеты, не вводя в курс сюжета, а прямо с того места, где остановилась. Бабушка не редко, если кухарничество затягивалось, использовала внучку в качестве радио. Но только, когда готовила блины, вопросами не перебивала, авторов не ругала, а если внучка замолкала на минуту-другую, не понуждала. Видимо, могущественный Парья не выносил лишних разговоров.
Ему и без того приходилось выносить соседство с Богородицей и Младенцем. Икона висела в так называемом красном углу, над радиолой. Марина спала к ней спиной, а Парья, если предположить, что бабушка обращалась к нему, глядя в лицо, через дверной проём видел мать с грудничком на руках, во всей красе. Марина же, сидя на скамейке, наблюдала только бабушкину спину да краешек щеки, временами освещаемый всполохами угольков. По левую руку, едва ли не с каждой секундой подрастающую, башенку из блинов. По правую – эмалированную миску с изображением лесных птиц и еловых шишек. В миске тесто, в тесте большой половник, чтобы порции хватило сразу на две сковороды. Которые то и дело разрезали воздух. Казалось: бабушка не блины печёт, а совершает какое-то колдовство, настолько её движения были лёгкие и плавные, убаюкивающие. А ещё это странное заклинание: «Парья-Парья. Парья-Парья. Парья-Парья».
Негромко, почти шёпотом повторяя, она едва заметно покачивалась на стуле, казалось, и сама прибывает в полуспящем состоянии, в трансе. Но в поле зрения держала и Мурлока, и Марину, и блинную башню.
Человек посторонний увидел бы такую картину. Девочка с книгой, сиротящаяся на скамейке, бабушка со сковородой, оберегающая блины. Мог бы предположить и вполне справедливо, что бабушка какой-то деспот, держащий собственную внучку в чёрном теле. Но она была человеком щедрым и гостеприимным. За душевные качества её любили не только родные, но и в целом песковчане. Однако некоторые качества и привычки человеку стороннему не могли не показаться необычными. Всё у неё было про запас, под счёт, под ключ, под роспись, строго на своём месте, с меткой.
И перерубить её тоже было задачей не выполнимой. Если бабушка что-то решила, на чём-то стояла, то сдвинуть её не смогли бы и тысячи революций со всеми их гражданскими войнами. Единственным человеком в мире, которому вопреки даже собственным верованиям, она повиновалась, кого никогда не позволяла окрестить чёртом рогатым, был дедушка. Но он своей привилегией пользовался настолько редко, что о ней почти никто и не знал. Возможно, от того и прожили вместе сто один год. Беда в том, что дедушка, представить трудно, но к блинам был равнодушен.
Поэтому, не имея ни единой возможности переубедить бабушку, пока работа не закончена, приходилось питаться ароматами.
Однажды, когда Марина уже ходила во второй класс, стряпая блины на золовкины посиделки, бабушка, как обычно после нескольких заходов, потянулась в печь, кочергой раззадорить угли. Марина собрала всю храбрость в кулак и умыкнула поджаристый мучной круг. Было хотела поделиться с Мурлоком, но боясь быть пойманной, пока бабушка копошилась в печи, съела его сама.
Бабушка на счастье пропажи не заметила. Словами, сколько ликования было в душе у девочки, не передать. Марина даже успела увидеть, как каждый раз, когда бабушка отвлекается, она ловко проворачивает уже опробованный трюк. В душе улыбалась масляной улыбкой.
Но испёкши очередные блины, бабушка произнесла свою присказку дважды, а на третий раз споткнулась на полуслове: «Парья-Парья. Парья-Парья. Парь…»
Она взглянула на башенку, на внучку, на кота, а затем так отругала Марину, что та про себя поклялась больше никогда в жизни не есть блинов.
Вот только уже скоро с обиды на бабушку пристала к другой мысли: «Неужели бабушка считает каждый блин?» В башенке их было, казалось, сотни. Самой башенкой при необходимости можно было подпереть небо. Но бабушка заметила пропажу. А значит и впрямь считала? Другого объяснения Марина не нашла, и грустная, но все же отказавшись от клятвы, на пару с Мурлоком продолжала ждать окончания работы.
«Парья-Парья. Парья-Парья. Парья-Парья»,– едва заметно покачиваясь на стуле, повторяла бабушка и, крестя воздух взмахами сковород, продолжала своё блинное колдовство.
Она управлялась одновременно сразу с двумя сковородками, каждая из которых и в одиночку могла утомить любого теннисиста, но в её руках они и впрямь напоминали теннисные ракетки, с такой лёгкостью разрезали воздух, хотя целиком состояли из алюминия. Лишь ручки были деревянными, их дедушка собственноручно изготовил и приладил. На одной сковороде ручка, для удобства пользования русской печью, была в два раза длиннее. В остальном сковороды ничем друг от друга не отличались и блины производили, как близнецы-братья, неотличимые.
Бабушка пробовала учить этой премудрости дочку, позже и внучку, но те, легко осваивая искусство заговоров, зельеварением овладеть не могли, хоть убей. У них блины выходили толстые, как лепёшки, так ещё зачастую, горелые.
Возможно от того, что не понимали: «Колды работа не закончена. Есть – грех. Против бога вражда» или не были знакомы с Парьей. Но вероятнее просто не каждому дано.
Несколько лет прошло, миллион блинов было съедено, чаю выпито целый колодец, прежде чем Марина разгадала секрет бабушкиного заговора.
«Парья-Парья. Парья-Парья. Парья-Парья»,– выстраивая блинную башенку, она складывала тончайшие кружочки с небольшим нахлёстом, в полмиллиметра, настолько маленьким, что и не заметить. Однако Марина заметила. Башня выстраивалась словно из кирпичиков, в шахматном порядке. Наблюдая за бабушкой, Марина разгадала, что она считает не точное количество испечённых блинов, а разбивает их по парам. «Вот тебе и парья»,– подумала она и, как только бабушка потянулась раззадорить кочергой угольки, провернула уже однажды проверенный трюк. Но умыкнула не одинокий поджаристый круг, а сразу «парью». С очередными испечёнными блинами, вернувшись к своему заговору, бабушка не споткнулась на полуслове: «Парья-Парья. Парья-Парья. Парья-Парья»,– пересчитывая, произнесла она и даже не взглянула на внучку. Ликования в душе было даже больше, чем в предыдущий раз. Но Марина не чувствовала того, как каждый раз, когда бабушка отвлекается, она хотя и ловко проворачивает уже опробованный трюк, в душе масляной улыбкой не улыбалась. Переросла. Ученице четвёртого класса, видимо, похищать блины стало уже не интересно.
***
Маринка с утра волновалась, не расставалась с будильником, засекала время на пять минут, в течение этого времени читала вслух, с выражением, как стихотворение: «Во время войны Исполнительный комитет ленинградского городского Совета депутатов принял решение о том, что крейсер «Аврора» на Неве будет как памятник активного участия моряков Балтфлота в свержении Временного правительства в дни Великой Октябрьской социалистической революции. Случилось это 17 ноября 1948 года, и с этого дня крейсер «Аврора» пришёл к месту вечной стоянки. «Аврору» называют кораблём-памятником».
Текст не без помощи мамы, но всё же составила сама из впечатлений о музее на крейсере «Аврора», а значит учить было проще.
Отвлекали только мысли о любимой подруге. Мало того, что обещанное письмо из Ленинграда не написала, так ещё и на радио идёт выступать. Опять одна, без Кати. Но Катя была легка на помине, прибежала к Маринке, чтобы сообщить, что вечером выступает на местном радио со стихотворением Степана Щипачева о пионерском галстуке, которое ей через сестру, передал Пётр Степанович. Неизвестно: намеренно Безносиков включил в программу одновременно двух подружек, решил полюбоваться сразу обеими, или удачно совпало. Но Марина с Катей прыгать были готовы от радости. Вечерняя передача посвящалась 55-ой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
Пётр Степанович являлся во многом первопроходцем, в том числе и организатором первого публичного радиослушания в посёлке. Каждый четверг по вечерам песковчане на полчаса были прикованы к радиоприёмнику, чтобы узнать новости о людях и предприятиях посёлка. Получасовая передача состояла из трёх страниц-разделов: новостная, литературно-краеведческая и «разное» – здесь сообщались в основном объявления-анонсы на ближайшую неделю.
Катя микрофона не боялась, её часто приглашали быть ведущей на местных праздничных концертах. А вот Маринка волновалась, поэтому постаралась выучить своё выступление так, чтобы от зубов отскакивало: «Но это не просто памятник, здесь матросы овладевают военным делом и несут службу: содержат в порядке корабль, принимающий тысячи гостей-туристов. А ещё это музей. Первый начальник музея – кавторанг Б.В. Бурковский. По крупицам собирал материалы, связанные с крейсером «Авророй». Штатных сотрудников мало, но все матросы и старшины на крейсере могут быть экскурсоводами».
Кате было выделено время до двух минут в самом начале, а Маринка должна была завершать передачу и уложиться до пяти минут, а иначе её просто отключат, и конец доклада песковчане не услышат. Она усиленно весь день зубрила, повторяла строки всё быстрей и быстрей, чтобы уложиться в пять минут, от выразительного стихотворного чтения почти ничего не осталось: «Чтобы попасть в музей, надо подняться по трапу, который поскрипывает и покачивается при каждом движении ног. За поручни невольно держишься, чтоб не закружилась голова – внизу вода…
В музее шестьсот экспонатов. В одном из залов есть диорама, посвящённая Октябрю. Изображён крейсер, подошедший к Зимнему. В это время всегда включается запись с голосом первого комиссара «Авроры» Александра Викторовича Белышева. Возникает эффект присутствия, и зрители как будто проваливаются в ту эпоху…»
Чтобы попасть на радиоузел, надо было пройти по плотине завода через проходную по пропуску. Подружки прошли в сопровождении Петра Степановича.
Глава 10
***
В импровизированной студии увидели вожатую Галину Михайловну, учителя географии и по совместительству руководителя краеведческого музея Василия Павловича. Пётр Степанович подошёл к микрофону, настроил его, сказал приветственные слова. И посадил Катю, представив её как ученицу 7 Б класса Снежкову Екатерину. Та бойко продекламировала стихотворение: «Как повяжешь галстук,
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.