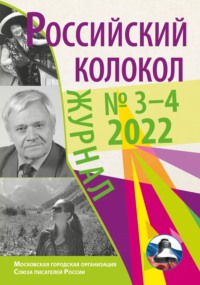Полная версия
«Российский колокол». Специальный выпуск. 2025

«Российский колокол». Специальный выпуск. 2025
Литературно-художественный журнал

© Российский колокол, 2025
Редакция не рецензирует присланные работы и не вступает в переписку с авторами.
При перепечатке ссылка на журнал «Российский колокол». Специальный выпуск. 2025 обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Слово редактора
Дорогие читатели журнала «Российский колокол»!

Представляем вашему вниманию специальный выпуск литературного журнала «Российский колокол».
Продолжаем чтение романа Анастасии Писаревой «Игроки». Автору удалось создать психологический портрет поколения. В главном герое мы можем найти те черты, что сегодня приняты за норму, но автор показал, что нормой это можно назвать с натяжкой.
В разделе «Современная проза» вы найдёте рассказы самой разной направленности, но их объединяют вещи, которых нам всем стоит коснуться. Хорошо было бы, если бы в рецензиях на прозу мы научились говорить о темах, которые поднимают авторы. Раздел «Метафора» представлен красивыми сказаниями, певучими текстами. «Поэзия» в этот раз представляет военную тематику и новые имена.
Критик Вадим Чекунов препарирует тексты в статье «Промеж болотной неудоби». Елена Гофман рассуждает о симулякрах писателей, а Ольга Камарго исследует феномен Эразма Роттердамского, мыслителя XV века, и сложные взаимоотношения Льва Толстого и кинематографа.
Будем рады вашим отзывам!
С глубоким уважением к читателю, шеф-редактор Анна Гутиева
Современная проза

Елена Гофман
Пыль на брусчатке
Сергей Аркадьевич медленно шёл по узкой улочке, стуча тростью по брусчатке, выложенной веером. Он думал о том, сколько миллионов ног мостовая вынесла на своём горбу, сколько каблуков и подошв; сколько лошадей, запряжённых в экипажи и повозки, когда-то гулко цокали по ней, сколько автомобилей с рёвом проносится мимо. Сейчас лето, душно и мостовая в пыли, но скоро дожди смоют пыль с поверхности, осенние листья покроют узкую улочку шуршащим одеялом, а затем мороз скуёт её ледяными тисками и выпавший снег смягчит двойную твёрдость льда и камня. Но мостовой хоть бы что, хоть кол на ней теши. Она одинаково равнодушна, дрова ли на ней лежат или покойники…
Правда, кладка местами порушилась из-за отсутствия отдельной брусчатки. Сохранившиеся камни торчали, как редкие почерневшие зубы старика, накренившись вбок без опоры. В таких местах Сергей Аркадьевич останавливался, втыкал трость в углубление, напоминавшее ему пустую лунку, десну без зуба, и выставлял вперёд здоровую ногу. Затем осторожно переносил больную и всматривался в щербатую брусчатку, решая, куда перенести трость дальше.
Он остановился у трёхэтажного дома из красного кирпича и, прежде чем свернуть во двор, решил передохнуть. Посмотрел на низкие старенькие домишки и опять погрузился в размышления. Любые сооружения, построенные человеком, – не просто стены сами по себе. Вместилища человеческих жизней, они держатся дольше людей. Вещи – значит вещие, почти вечные, прочные и неживые. Хотя говорят ведь, что дома дышат. Может быть, живут они какой-то особенной жизнью, неподвижной, устоявшейся: чувствуют что-то, вещают нам безмолвным языком, – а людям и невдомёк. Конечно, дом выглядит молодым и красивым, когда люстры внутри горят да музыка играет, когда оштукатурен он и пахнет свежей краской. А вот после бомбёжки дом черепу подобен: пустые глазницы окон, худые скулы подъездов, желваки флигелей. Нет, всё это – человеческий взгляд на вещи. Самим стенам всё равно, сирена воет или оркестр играет. И мостовая эта, и улица – всего лишь пространство, арена для жизни. Но иногда кажется, что именно мы, люди, вторичны по отношению к вещам; именно мы подобны призракам: наша жизнь скоротечна, пожили немного да осели пылью на брусчатке, уступив место следующему поколению призраков. И так слой за слоем, слой за слоем. Каждое поколение – словно пыль времени на потемневшей мостовой.
Раньше Сергей Аркадьевич, бывая на Васильевском острове, обходил улицу Репина десятой дорогой. Но, ссутулившись под тяжестью лет, понял, что сумерки приятнее яркого света, а тихие проулки милее любого шумного проспекта. Брусчатка хранила его тяжкие воспоминания, но с годами любое горе отчасти притупляется и не удручает, как раньше.
– Твой краш, говоришь? Ну-ну… Уже пятый за полгода, – услышал он звонкий девичий голос.
– Да ладно, сама не лучше, – второй голос был чуть глуше, с хрипотцой, словно прокуренный. – Я хоть живых реальных пацанов выбираю, а ты то в певцов, то в актёров влюбляешься. И что это на завтрак мой любимый крашик лопал? И куда это он потом поехал? И с кем он последние три ночи провёл?
– А твои задроты чем лучше?
Сергей Аркадьевич, оказавшись случайным свидетелем девчоночьей перепалки, непроизвольно поднял глаза и словно прилип взглядом к их яркой внешности.
– Ну, чего уставился, дед? – хриплым окриком осадила его девушка с ярко-зелёной чёлкой и густо накрашенными глазами.
– Я? Ничего, – потупился Сергей Аркадьевич.
– Да ладно тебе, не груби, – махнула рукой на подругу её спутница, от которой отличалась только цветовой гаммой волос. Их кирпичный оттенок здорово сочетался с фасадом ближайшего дома.
– Пришли. Вот она, «Репа», – обрадовалась Зелёная и ткнула пальцем в сторону внутренней арки. Они свернули во двор, и дед вновь поднял глаза, рассматривая их тёмные фигуры, одинаково одетые: в широкие толстовки и штаны чёрного цвета.
А ведь Сергей Аркадьевич тоже в «Репу» направлялся, в кафе-клуб для трудных подростков. Его ведь пригласили специально, чтобы он поделился воспоминаниями как коренной ленинградец, участник блокады, который родился на Васильевском острове и в пять лет был эвакуирован вместе с матерью на Большую землю. Встреча с Сергеем Аркадьевичем, по замыслу организатора Елены Владимировны, должна была тронуть души малолетних недорослей, проблемы которых крутились вокруг наркотиков и цифровых миров.
Внуков у Сергея Аркадьевича не было, сын жил далеко от северной столицы, поэтому опыта общения с юным поколением дед не имел. Он согласился выступить в «Репе» после долгих уговоров жены: «Сделай доброе дело, поговори, расскажи им, живущим в достатке и сытости, о том, что детство бывает совсем другим, ну же, пойми, что ты – живая история». Но была ещё одна причина: кафе находилось именно на той узкой улице, названной в честь художника Репина, с которой он так давно не решался встретиться. Сергей Аркадьевич подспудно знал, насколько важно для него пройти по щербатой мостовой. И, столкнувшись с яркими девицами, он вновь засомневался, нужна ли ему встреча с подростками. Минут пятнадцать он топтался у обочины, но, собравшись с духом, решительно направился в кафе.
Его встретила пышная приятная женщина с короткой стрижкой. Её не очень выразительные глаза обрамляли крупные очки в брендовой оправе. Посеребрённые дужки отлично сочетались с белёсостью волос.
– Вы Сергей Аркадьевич? Я Елена Владимировна. Проходите. По коридору, пожалуйста. Киносеанс ещё не закончился. Потом обсуждения минут на десять. И затем общение с вами.
– Уж не знаю, справлюсь ли я с такой педагогической задачей. Я ведь, сами понимаете, не Макаренко.
– Да вы не переживайте, ребята сложные, но не безнадёжные, – защебетала она. – Их возраст самый противоречивый. Незрелость подростков двойная: она и телесная, и душевная. Угловата не только фигура, но и психика, если можно так сказать. Они такие ранимые. Любое слово или действие, с точки зрения взрослых, самое незначительное, может спасти или погубить подростка, толкнуть его в пропасть или, наоборот, вытащить из преисподней.
Сергей Аркадьевич в изнеможении присел на вовремя подставленный стул. Общение с молодёжью показалось ему непосильной ношей.
– Но вы им обязательно понравитесь. Вот увидите. Я хорошо знаю этих ребят. Вы присмотритесь к ним. И при общении ни в коем случае не заигрывайте с ними. Говорите уважительно, но не свысока. Улыбайтесь им, шутите. Они любят юмор.
– Но я ведь пришёл делиться воспоминаниями, и не самыми весёлыми, – несмело возразил Сергей Аркадьевич.
– Ну так и что? И на войне были хорошие моменты, фронтовая дружба, так сказать, и прочее. Вы их позовите, позовите в уютный мирок своего жизненного опыта. Они отзывчивые и если почувствуют, что взрослые или даже пожилые люди наводят мосты в их подростковую вселенную по собственной инициативе, так сказать, то обязательно откликнутся, отзовутся душой.
– Я постараюсь, постараюсь, – поспешил заверить организаторшу представитель пожилого мирка. – Как бы мне самому не утонуть в их подростковой вселенной. Я и слов многих из их лексикона не понимаю. Краш, например.
– О, если вы произносите слово «краш», значит, у вас всё получится, – обрадовалась Елена Владимировна и вновь защебетала: – И понимать здесь нечего. Ребята раскованные, открытые. Их можно спросить о чём угодно. Сами всё объяснят. Они очень сознательные. Понимают любое своё состояние. Умеют называть вещи своими именами. К примеру, вот та, с зелёной чёлкой, – Снежана, она даже ночью мне звонит, чтобы описать своё смятение. Она чётко понимает, что у неё депрессия. Так и говорит: Елена Владимировна, у меня опять она, старуха с чёрными веками, депрессия, хоть из окна прыгай. Я, конечно, её успокаиваю, беседую с ней по-взрослому, серьёзно беседую. Мы с ней полночи говорим. Представляете, она такая настойчивая, всегда старается найти и понять причины своего депрессивного состояния. Ведь мама не баловала её своим вниманием. Девочка росла как плющ на заборе. Цеплялась за любое ласковое слово, за любое проявление тепла, так сказать… Она…
– А что они смотрят? – Сергей Аркадьевич перевёл тему на более безопасную почву. Несмотря на то что экран светился, в зале было достаточно темно, и глаза старика не могли разобрать, сколько подростков находилось в зале.
– Мультфильм…
– Так ребята вроде бы взрослые?!
– Так ведь и мультик непростой. Не зря «Головоломкой» называется. Его герои уникальны. Они – эмоции, живущие в голове одной девочки. Радость, Гнев, Печаль и так далее в равной степени необходимы каждому из нас. Фильм показывает человеческую психику через образы и символы. Вот, например: поезд мыслей – это поток сознания. Он прибыл к хранилищу воспоминаний, в котором особенно занимателен для меня зал… абстрактного… мышления.
Последние три слова Елена Владимировна проговорила медленно и выразительно, с паузами, словно не произносила, а писала каждое из них с заглавной буквы: Зал Абстрактного Мышления. Нотки восхищения слышались в звучании её голоса. И ещё гордость, видимо, за свою причастность к двуногим существам, которые считают себя абстрактно мыслящими. Погордившись несколько мгновений, она важно продолжила с победоносной улыбкой:
– А как изящно вырисован отдел снов! А пещера страхов! А пропасть подсознания! Ведь они, наши трудные подростки, всё время в неё падают. Мы учим их вытягивать себя оттуда самостоятельно, но не с пустыми руками, а с осмысленными нарративами прошлого, так сказать.
– А зачем она нужна, эта пропасть подсознания? – удивлённо спросил Сергей Аркадьевич. – Зачем туда нырять?
– Вы, наверное, незнакомы с современной психологией? – Елена Владимировна снисходительно заулыбалась. – Видите ли, в наше время без этого никак. Негативные следы жизненного опыта ежеминутно влияют на то, как мы себя ведём, какие отношения выстраиваем с людьми. Это бремя, которое тащит каждый из нас. Груз прошлого, призраки пережитого губят наше будущее. Понимаете?
– Нет, не понимаю. Знаете, Елена Владимировна, за моими плечами долгая жизнь и много призраков прошлого. Но при чём тут подростки?
В этот момент показ мультфильма закончился. Организаторша подскочила, включила свет, который открыл Сергею Аркадьевичу, что в зале всего трое подростков и с двумя он уже немного знаком. Снежана, увидев деда, поджала губы и выразительно посмотрела на подругу с красными волосами. Обе прыснули и потупились. Худощавый парень с мелкими неразборчивыми наколками на шее и скулах оглянулся на них, словно ожидая, когда и с ним поделятся шуткой. Елена Владимировна прошептала на ухо гостю, чтобы он посидел у входной двери, а сама рассадила подростков за круглый стол в удобные кресла и начала свой допрос в стиле приятной беседы.
– Ребята, понравилась ли вам просмотренная «Головоломка»?
– «Головоломка» ваша – для девчонок. Я бы лучше «Человека-паука» в десятый раз посмотрел.
– Так ведь «Паук» – такой же мультик, как и «Головоломка», только для прицеперов… Для прицеперов, таких как Максим, – отозвалась зеленовласая Снежана. – А мне понравилась «Головоломка». Как тебе, Эва?
– Так Максим же руфер, а не прицепер, – не отвечая на вопрос, уточнила Эвелина.
– А чем отличаются руферы от прицеперов? – поинтересовалась Елена Владимировна.
– Вот всё расскажут, – сделал огорчённую мину Максим, но, ухмыльнувшись, стал объяснять: – Руферы по балконам и крышам лазают, а прицеперы к поездам или троллейкам прицепляются.
– А что скрывать? Ты сам фотки выставляешь! И даже видео! Я когда увидела, как ты с балкона на одной руке свисал, а другой снимал себя на видео, мне плохо стало… – сердито выдала Эвелина.
– Эва, ты неправа. Макс не руфер, не прицепер, а зацепер, раз висел, зацепившись за балкон… – уточнила Снежана, улыбаясь.
– Правда, Максим? – побледнев, спросила организаторша.
– А если сорвёшься?
– Ну сорвусь – и что? – зло проговорил Максим. – А какой смысл в моей жизни? Так хоть умру красиво, как в кино…
Сергею Аркадьевичу стало душно. Он не был готов к подобным откровениям и не мог разобраться в хитросплетениях жизни современных подростков. Но острая жалость к ним вдруг сковала его сердце, жалость и бессилие. Ему захотелось сбежать. Он не мог понять, зачем он здесь, почему, для кого. Подростковая вселенная вызвала ужас у деда.
– Максим, – твёрдо, чеканя слова, проговорила довольная собой организаторша, – ты смелый и сильный парень. Я знаю, понимаю твоё состояние и понимаю абсолютно точно, будь уверен. В шестнадцать лет хочется свернуть горы, энергии хоть отбавляй. А родители тебя ещё за первоклашку держат. Так ведь? Поэтому ты и хочешь доказать своей маме, на что способен. А способен ты гораздо на большее, чем думает твоя мама, способен ты на поступок, даже на подвиг. Так ведь, Максим?
– Нет, ничего не хочу я никому доказывать! Слышите? Ни-че-го! – повысил голос Максим и вскочил словно ужаленный.
Елена Владимировна побледнела. Типичный шаблон беседы дал нетипичный результат. Но психолога на «слабо» не возьмёшь.
– Максим, вспышки агрессии в шестнадцать лет – дело обычное. Сядь. Успокойся. Прошу тебя. – Нотки нежности и печали послышались в голосе организаторши. Парень сел.
– Вот и хорошо… – продолжила Елена Владимировна, вздыхая. – Конечно, в такой сложной семейной атмосфере, в которой ты находишься, когда твоя мама…
– Моя мама?! Что она вам сделала, моя мама?
– Мне, Максимушка, ничего. Я с ней даже незнакома. Но вот тебе с ней непросто…
– А вам-то что?
– Максим, ты недослушал. Тебе непросто с твоей мамой, но всё-таки она у тебя единственная, родная. Она старается как может. И любит тебя, так сказать. Прими её, Максим. Вспомни финал «Головоломки». Как это важно – примириться с собственной мамочкой!
– Отвяжитесь от мамы моей и от меня! Зачем вы мне талдычите каждый раз про мою маму? Что вы всё лезете и лезете не в свою жизнь?
Максим вскочил и, словно футбольный мяч, одним прыжком отскочил к двери, рывком открыл её и выбежал на улицу. Дверь резко дёрнулась и с визгом вернулась в исходную позицию. В кафе повисло напряжённое молчание. На экране бледными пятнами продолжали светиться киношные образы человеческих эмоций: Печаль смотрела из-за плеча Гнева на улыбающуюся Радость. Шумела кофемашина, распространяя горький аромат. И невозмутимый бармен спокойно занимался своим делом: ему приходилось видеть потасовки и покруче. Девчонки поглядывали друг на друга и ухмылялись одними уголками губ. Елена Владимировна медленно сняла стильные очки, взяла со стола салфетку и стала протирать их стёкла: тщательно, методично, долго, сначала одно, затем другое.
– Елена Владимировна, вы не переживайте, я быстро, я сейчас его верну… – засуетился Сергей Аркадьевич. – Он наверняка во дворе. Я сейчас его верну, вы только не расстраивайтесь. Я мигом…
Лицо деда горело то ли от стыда, то ли от повышенного давления. Прихрамывая, он поспешил к выходу. И вечерняя прохлада приятно освежила его. Сергей Аркадьевич с облегчением вздохнул и огляделся по сторонам. Рыжая пухлая кошка с тонким ошейником ела кошачий корм из переполненной миски. Неподалёку на странной кованой лавочке, стилизованной под железнодорожные рельсы с частыми шпалами, сидела худенькая старушка с пакетом корма в руках.
– Парень ваш пронёсся, чуть миску не сбил. Ох уж эта молодёжь! Вы его точно не догоните. А ты, киса, кушай, кушай, моя хорошая…
Растерянный Сергей Владимирович вышел на мостовую и побрёл в сторону Большого проспекта. Понял, что не сможет вернуться в кафе, что сбежал, как подросток. Без скандала, конечно, потихоньку сбежал, но всё же… Вряд ли Максим вернётся в «Репу». Да и деду там не место. Чем он может помочь ребятам? Разве сможет объяснить, в чём смысл их жизни? Подобрать нужные слова сама психолог, профессионал, не смогла. Где уж ему…
Он шёл по мостовой и по-стариковски шевелил губами. Люди часто проговаривают сами себе то, чего не смогли высказать другим. Подбирают нужные важные слова, которые не возникли вовремя, и обращаются с ними к человеку, к тому собеседнику, диалог с которым по каким-то причинам не получился или получился не так, как им хотелось бы. Сергей Аркадьевич видел перед собой лицо Максима. Сначала он тщательно обдумывал, что мог бы сказать подростку. Потом незаметно погрузился в воспоминания и стал делиться ими с парнем, словно тот шёл рядом.
Разве знает Максим, что улица Репина – самая узкая в городе, не больше пяти-шести метров. Она появилась давно, в петровские времена, в виде тропинки к ближайшему рынку. Сергей Аркадьевич помнит её с раннего детства. Он был поздним ребёнком, худеньким, болезненным, третьим сыном в семье. Старшие братья-погодки, Николай и Фёдор, высокие и сильные, носили его на плечах как пушинку. У Максима наверняка не было старших братьев… Они ни за что не позволили бы ему рисковать жизнью, цепляясь за балкон: сразу уши надрали бы, без лишних разговоров, да и дело с концом. А матери ни словом бы не обмолвились. Сами разобрались бы, мужики ведь. Зачем мать пугать и беспокоить? Как было легко и весело с братьями, если бы Максим только знал.
Однажды после прогулки они втроём шумно ввалились в квартиру, а мама, бледная, закрывая ладонью рот, совсем тихо произнесла слово «война». Страшное слово для старших и совсем нестрашное для маленького Серёжи. Он улавливал тревогу в голосах, но был слишком мал, чтобы понять, что происходит. Разве может представить Максим, готовый по-киношному умереть, как хочется жить, когда бомбы разрываются совсем рядом; разве может понять, что такое голод, до коликов, до тошноты, до обморока…
Жизнь разделилась на до и после: до эвакуации, когда семья жила на набережной Макарова, и после, когда братья по-взрослому наотрез отказались уезжать. Отец на фронте, и они должны быть в строю. Им было примерно столько же, сколько Максиму: Николаю – семнадцать, Фёдору— шестнадцать. В кафе подросткам показывали кино про пропасть воспоминаний, а ему, Сергею Аркадьевичу, не до мультиков. Он, пятилетний ребёнок, до сих пор помнит, как братья, вчерашние дети, бежали за машиной, пока она не исчезла за ближайшим поворотом. И как мама, прижимая Серёжу к себе, молча плакала, и его ладошки, щёки и даже шапка были мокрыми от её слёз.
Хотя, конечно, помнил дед далеко не всё, и слабую мальчишескую память дополняло воображение, которое питали рассказы матери и старого бригадира. Он в сорок втором работал и жил вместе с парнями на заводе «Севкабельпорт». Никаких психологов тогда и в помине не было, и братья несли все тяготы военного тыла на себе молча. Николай всегда считал себя за старшего. Спали они вместе у станка, так было теплее. Но иногда Федя начинал хлюпать носом, и слёзы впитывались в Колин ватник. Сам он крепился, не плакал, только сердито выговаривал: «Ладно, поздно уж, спи», – и ещё крепче обнимал младшего. Они так и погибли. Слышишь, Максим? Погибли… в обнимку… во сне… при обстреле завода… Разве можно о таком рассказать в кафе, в перерыве между кино и вечерним променадом, Максим?
Память – вещь скользкая. Сергей Аркадьевич помнил братьев, но словно во сне, фрагментами: то Колина улыбка появлялась как ощущение, и хотелось смеяться в ответ. То Федины сильные руки в рукавах белой рубашки вставали перед глазами, когда тот подкидывал и ловил его детское тельце, подкидывал и ловил. Кудрявый чуб Коли он помнил особенно хорошо, потому что ему нравилось запускать маленькие пальчики в его волосяные заросли и теребить, теребить их. Но лица братьев Сергей Аркадьевич помнил точно, по старой фотокарточке. Он рассматривал её, когда старый бригадир со слезами рассказывал матери о том, как Коля с Федей впрягались в сани, гружённые телами замёрзших погибших людей, и тянули их из последних сил по улицам Васильевского острова. Лошадей-то не было. Узкая короткая улица Репина была подходящим местом для морга под открытым небом. Все эти годы Сергея Аркадьевича терзало жуткое видение: лица братьев соединились в его воображении с картиной Перова «Тройка», той самой, на которой дети тянут неподъёмный груз. Он представлял, как Коля с Федей тащили сани с покойниками, а потом вместе с бригадиром выгружали тела на эту самую репинскую брусчатку, мёрзлую и лютую, представлял и плакал.
Старик остановился, споткнувшись о неровный камень. Сердце его учащённо билось. Летняя пыль казалась ему инеем. Холодом веяло от земли. Он то ли увидел, то ли почувствовал, что сани по-прежнему скрипят, и скрипят по мёрзлой брусчатке, и братья по-прежнему тянут и тянут свою непосильную ношу.
Райский сад
Антон Павлович называл себя софистом.
– Не могу позволить себе иметь даже одно приемлемое для меня убеждение: «не иметь никаких убеждений». Вставать на трибунку одного мнения или идеи, пусть даже самой правильной, – значит обделять свою личность, сжимать рамки мировоззрения. В эпоху рыночного расширения сознания приходит понимание, что мы живём в мире всесторонних связей. Всё связано со всем и во всём! – патетично провозгласил Антон Павлович.
– По малому моему разумению, паук тоже живёт в мире всесторонних связей и сам плетёт эти сети, – парировал отец Серафим, поглаживая длинными пальцами стриженую бородку, – но не для того, чтобы расширять своё многолапчатое сознание, а чтобы покушать. Вы, Антон Павлович, к кому себя относите: к паукам или мошкам?
Софист не позволял конфликту проявиться даже тогда, когда таковой подавался под соусом ничтожной дискуссии о «насекомых».
– К паутине, к тонким коммуникационным нитям, оплетающим всё вокруг. Психологи нынче – клей, основа, на которых держится человеческое общение.
– И тут выкрутился, – заулыбался молодой батюшка, откидывая волнистые волосы со лба. Священник был одет как обычный мирянин, но тёмные тона одежды, животик и скромный, но уверенный взгляд выдавали в нём служителя культа. – А вот и покушать несут…
К столику подошёл неуклюжий полноватый официант с совиными глазами. Держа поднос с посудой двумя руками, он запнулся у самого столика, и стеклянный фиолетовый бокал (пустой, слава богу) упал на плиточный пол и разбился вдребезги.
– К счастью! – воскликнул Антон Павлович, но слегка скривил полные губы.
Паренёк суетливо извинился, виновато смотря на осчастливленных клиентов. Сбегал за метёлкой, затем долго и неуклюже подметал пол и слушал, как собеседники наперебой успокаивают его.
Два душеведа, психолог и священник, познакомились случайно и встречались нечасто. Но, общаясь, невольно испытывали спортивный интерес к интеллектуальной полемике. Высказанная мысль должна была отскакивать лёгким мячиком от плоской поверхности ментального бытия, как в настольном теннисе, прямо к достойному противнику, готовому парировать её ответом – ракеткой. Интеллектуальная реакция требовала главного: не пропустить мысль за пределы допустимого поля, разумного и смыслового игрища. Уронить её в безбрежность за пределами игрового стола значило бы признать, что бытие не поддаётся мыслительному структурированию и существует вне игровой комбинаторики.