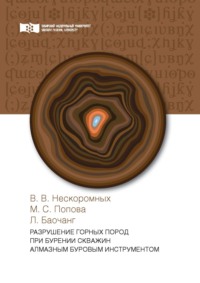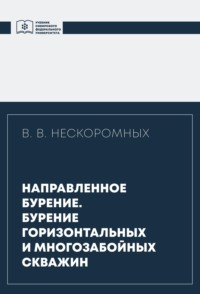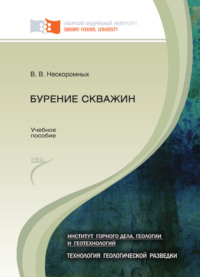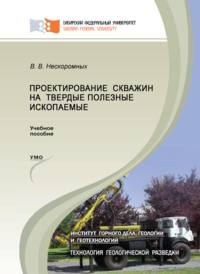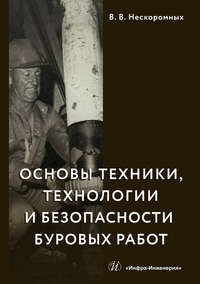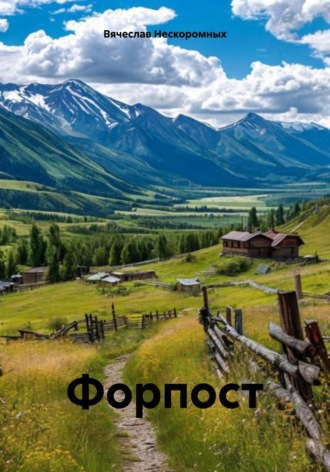
Полная версия
Форпост
Чтобы купить мерина пришлось продать дойную корову и ещё добавлять из денег, собранных за два года, как работал Иван с отцом на заготовке извести. Вышел пятилеток гнедой масти после торга с Чалым за сто семьдесят рублей, а полученные от Императора государственное вспоможение в сто рублей ушли на седло, шашку и обмундирование.
Не чаял Иван, что повстречает в степи группку станичных девиц, что отправились к озеру Тус посмотреть на причудливые соляные наросты, появившиеся за зиму. Солёное озеро долго крепилось в морозы, поддавалось холоду неохотно, но замерзало в декабре, а по весне, когда истончался и сходил мутный от соли лёд, берега покрывались причудливыми соляными изваяниями. Вот девчата и решили увидеть эту красоту, сияющую на изломе яркими всполохами радужного сияния.
Среди девчат шла на озеро и Настя, соседка Ивана по ближней к реке улице. Настин двор был невдалеке, и встречались с ней частенько, порой до ночи группой ребят и девчат просиживали во дворе под разговоры. Настя была ладной девушкой, работящей из семьи казацкой с русой косой, стройная, крепкая, но с косящими под хакаску глазами.
По этому поводу шутили над девушкой:
– С каким хакасом маманя твоя согрешила, Настюха? Ну, вылитая девка от степняка!
В ответ шутник мог получить затрещину, а то и в глаз, но скоро все уже попривыкли и только посмеивались. Тем более взрослея, годам к шестнадцати, расцвела Настёна, и раскосость её отнюдь не портила.
Настя была, не сказать, что красавицей, но яркой лицом и нрава бойкого: от матери взяла восточного колорита, от отца стати русской основательной, любила и петь и сплясать на вечеринке. Её раскосость и скуластое лицо были той едва приметной очаровательной чертой, которая неосознанно приковывает внимание, а милая улыбка и смех звонкий располагали и делали общение лёгким. На посиделках за селом у реки, когда брались играть, женихаться, Настя заводила круг для танцев, сама не боялась выйти в центр и отплясать, хоть барыню, хотя бы и кадриль, ярко топоча крепкими, стройными ногами.
– Отличная жинка для казака выходит из Настасии, – заметила как-то мама Ивана Лукия Петровна, наблюдая, что засиживались подолгу на лавке у забора под кустом распустившейся черемухи сын с Настей.
Иван тогда подумал, что и правда с Настей было интересно проводить время, но о женитьбе не думал совсем и соседку или какую-другую девку женой своей не представлял. Впереди была четырехлетняя служба в войсках, и на вопросы о женитьбе отмахивался:
– Возвернусь вот с войск, тогда и буду искать жинку, а пока я так, – без хлопот семейских поживу.
Отвечал и смеялся, поглядывая на Настю, – думал о том, что коли соберется жениться, то следует такую вот, как его ладная соседка, найти.
Быстрая и смешливая, весёлая и не глупая, Настя нравилась многим, но льнула к Ивану. Будучи помладше, понимала, что женой ему не будет, – ведь ясно же, что казаки уходят в войска, как набирают мужскую стать, а ей-то к тому времени всего семнадцать будет. Отец Насти, зная интерес молодых друг к дружке, приглядывал за Иваном, опасаясь, что в порыве чувств обрюхатит сосед Настю, а это позор, повод для пересудов бабьих. При встрече с Иваном во дворе Настин батя – Ефим, нет, нет, да прихватывал его за рукав и, дыхнув жарким в ухо, напоминал:
– Настьку тронешь до свадьбы, удавлю, Ваньша.
Так и жили по-соседски и дружили, и берегли, и береглись друг от друга.
В свои двадцать выглядел Иван хорошо сложенным парнем среднего роста. Худощавое лицо молодого казака с густыми русыми, с рыжеватым отливом волосами с казачьим чубом из-под старой, отцовской ещё, форменной фуражки, выказывали в нем человека, приметного. Над губой молодого человека пробивались уже мягкие юношеские усы, подкрученные залихватски торчком. Иван мечтал отрастить большие усищи и был в нетерпении – медленно росли совсем юношеские, тоненькие полупрозрачные волоски над губой и на подбородке. Улыбался Иван не часто и под признак «смех без причины» не попадал, а был скорее сосредоточен на своём и если говорил, то его слушали внимательно. Глаза русака Соловьёва смотрели зорко, пристально на собеседника, а вот нос, хрящеватый, тонкий, выдающийся выгнутым крюком был словно у птицы: от того и прозвали Ивана ещё подростком «Ванька-Кулик».
Ваньке нравилась его кличка и, дурачась с ребятами, любил он, выгнув грудь, подобрав руки колесом, манерно выхаживать, вытягивая ноги перед собой, словно кулик ступает по кочкам болота. Манерно вышагивая, парень крутил головой, словно выглядывая кого по сторонам, и выходило очень похоже. Станичные ребята смеялись, а девки удивлённо, со смешком поглядывали на Ваньку и, не зная, что сказать, округляли от удивления глаза и дружно крутили пальцем у виска и тут же прыскали от смеха в ладошки.
Заметен был у паренька не по-крестьянски высокий лоб, на который сразу обращали внимание, и как бы в подтверждение наличия ума, Ванька отличала рассудительность, скорость и смелость в принятии решений: думал и действовал быстро, в играх и в работе был проворен, как зверь на охоте.
Проводы в войска состоялись в сентябре, как закончилась уборочная страда и добытое с полей помещено в погреба и амбары, а сено на сеновал под крышу.
С утра собрались на площади в том месте, где был когда-то пост казачий, теперь уже порушенный за ненадобностью. Здесь на поляне собралась вся станица от малых, что шныряли между взрослых, высматривая самое интересное, до стариков, – приковыляли, позванивая медалями и крестами, самые хворые, но заслуженные станичники. Все ждали угощения от атамана, и тот не подвёл, выставил бочонок вина и приставил к нему виночерпия из станичной управы, деда Елизара.
Перед тем как допустить народ до бочонка, атаман со старейшинами станицы, по случаю все с медалями за войны с турками и японцами и в новых фуражках с красными околышками, со строгими торжественными лицами, вышли перед народом и сказали свои напутствия. Перед ними стояли рядом со своими конями в поводу молодые казаки Сибирского эскадрона, собранные, стриженные и мытые напоследок в родных банях, в новых, топорщащихся, ещё не приглаженных ладно на фигурах, мундирах с красными погонами, в шароварах с яркими лампасами и в чищенных до блеска сапогах.
Станичный атаман напутствовал казаков:
– Помните, станичники, что не было такого, чтобы наши казаки опозорили Соляной Форпост! С давних времен стоит наш стан, как защитный рубеж земли российской и стоять будет во веки веков надёжной опорой веры нашей и Державы, как пост защиты казацкого сословия от ворога, хулы и разора, от злодейства и воров.
В ответ гул одобрения прошёл по кругу собравшихся на площади, а кто-то, помня традиции, выкрикивал:
– Любо! Любо, атаман! Храни казаков, не жалеющих живота своего, во имя Отечества и сословия российских казаков!
Выслушав наставления атамана, старых казаков, вспомнивших славные свои денёчки молодости, лихие походы и яркие случаи службы, призванные на службу на своих конях, покрутились, джигитуя перед народом, демонстрируя выучку и готовность с честью послужить и не опозорить станицу.
В завершении торжественного майдана дед Елизар, готовый разливать вино, зычно пригласил:
– Подходи народ православный отведать вина сладкого во имя сына и святого духа воинства, во славу казацкого сословия и павших станичников на поле брани!
Момент вышел торжественный и потянулся народ со своими кружками чередом к столу с бочонком и деду Елизару.
Старик подслеповато щурился и ковшом с длинной ручкой черпал в бочонке вино и разливал в подставленные кружки, отказывая молодым, безусым, тем, кто норовил, опорожнив кружку, подойти спешно за второй. Надтреснутым сухим голосом Елизар ругал торопыг и недорослей:
– Повремени, повремени Гаврила, а то снова придётся тебя в бане отваживать, в речке отмачивать! А ты куда лезешь, Санька! Молоко ещё на губе до конца не высохло, а туда же за хмелем лезешь, не зная меры! Подрасти ещё, сынок!
Отчитав, по своему мнению недостойных выпивки, дед привечал тех, кто уходил в войска и молодым казакам наливали без задержки и без очереди. Это был их день.
Вечером перед закатом за станицей на излюбленном месте у реки собралась молодёжь, отметить последний день для тех, кто уходил в войска. Настя ждала, выглядывала Ивана, а тот пришел развесёлый, – смеялся, шутил, в новеньком мундире, штанах с лампасами, с заломлённой набекрень фуражкой, с напомаженным сестрой Лизкой чубом. Завтрашний отъезд в город, грядущая служба были долгожданными и волновали, и улыбка не сходила с губ. Впереди начиналась новая жизнь, новые впечатления и что ждать от неё, этой новой жизни было неведомо, но волнительно, и от чего-то весело.
Настя подошла к Ивану, была она печальна, губы кривились, словно от обиды:
– Уходишь Ваньша! Свидимся ли?
Иван отвечал, несколько небрежно, ровно так, как ведёт себя молодой человек, оставляя всё привычное из которого он вырос – детство, родные места и дом за своими плечами, отправляясь в дальнюю дорогу:
– Так куда я денусь? На побывку может и приеду? Глядишь, и свидимся. Ждать-то будешь?
Настя была несколько огорчена деланным равнодушием парня, губки скривила, но капризничать не стала:
– А как угонят тебя, куда далече с эскадроном твоим. Может война, какая зачнётся?
Иван продолжал хорохориться перед девушкой, повторяя слова отца:
– Да недавно была с японцем война. Теперь-то с кем? Повременить бы надо. А коли будет, – грянет, – пойду на войну. Казак он для службы армейской придуман и приспособлен. Не думай, я не струшу! Шашкой умею владеть не хуже других и врагу моему будет нелегко укрыться от неё.
Настя уже чуть не плача, прикрываясь уголком повязанного на шею платка, готовая смахнуть слёзы, пыталась «достучаться», пронять Ивана:
– А мне-то тебя, Ваньша, ждать? А то может я, и зазря переживаю?
– Что там говорить, Настя. Жизнь она только начинается. Свидимся ещё, надеюсь, тогда всё и будет понятно про меж нас. И потом – мала ты ещё, вот и батя твой мне об этом то и дело напоминает.
Так вот и расстались Иван да Настя, – молодые ещё люди, выросшие на одной улице. Теперь приходилось начинать жить поврозь и было это непривычно, ломало что-то важное, сложившееся, и от того было тревожно Насте, а Иван жил и грезил скорыми будущими впечатлениями. Открывался мир перед казаком с началом воинской повинности, которая была продолжением детской и юношеской забавы, в малолетстве начатых казачьих игр.
Глава 2
КРАСНОЯРК. КАЗАЧИЙ ЭСКАДРОН
Путь до Красноярска прошли за два дня верхами гурьбой, часто по-молодецки, – пускаясь на перегонки, следуя по тракту через Новосёлово и далее вдоль Енисея. Заночевав на привале у костра, стреножив коней и выставив, как положено посты, а с утра пошли по местности таёжной, то тропами, то лесными дорогами, непривычными после шири хакасских степей.
К городу подошли вдоль Енисея, а далее вышли к окраинам через пригодные сёла и с возвышенностей вокруг города смогли оглядеть раскинувшийся вдоль реки Красноярск. В пригородном селе уже в полутьме устроились заночевать, а утром, чуть ли не на рассвете тронулись вниз к городу в направлении сияющих куполами и перекликающихся перезвонами церквей.
В городе, который показался огромным, после небольшого Форпоста, прибывших разместили в военном городке на северо-восточной окраине города. Гарнизонный городок раскинулся у протоки Енисея близ двух трактов: в Канск и Енисейск. Добротные кирпичные двух и трехэтажные казармы из красного кирпича, полковая двуглавая церковь Александра Невского, обширный плац и место выездки коней, конюшни занимали места поболее, чем вся станица. В городе военный городок именовали Красными казармами и здесь размещались войска Красноярского гарнизона и Сибирский стрелковый полк, в состав которого и входил Енисейский казачий эскадрон. В военном городке и началась служба, которая день за днём правила молодых казаков и делала из них стойких умелых воинов.
Встречал казаков генерал Запыхалов, – невысокий, в обтягивающем сухое тело мундире, я пышными седеющими бакенбардами, с лицом всеведущего человека, которому многое в жизни любопытно. На груди генерала сиротливо поблескивал Георгий и, гремя шашкой и шпорами, взялся рассматривать прибывших казаков, – запылённых с дороги, но волнующе-торжественных, озирающихся в удивлении от нахлынувших впечатлений от увиденного и пережитого.
Генерал неспешно вышагивал перед строем прибывших новобранцев, задрав голову в фуражке с высокой тульёй и с прищуром внимательно осматривал молодца-казака через пенсне в серебряной оправе со свисающей изящной цепочкой.
Молодые казаки, сельские парни стояли перед генералом, тянулись по-мальчишески перед ним, держа в поводе своих коней.
Запыхалов проходил, смотрел пристально, останавливался, поправлял ремень, приглаживал ворот гимнастёрки, неловко торчащий за спиной вещмешок очередного казачка. Во взгляде генерала было радушие и строгость, одобрение и внимание. Кивая головой, замечал:
– Неплохо собрали вас станичники! Службу помнят!
Закончив обход строя, генерал отошёл и повернувшись к прибывшим казакам завершил осмотр:
– Добре, братцы, что прибыли в наш полк, в славный эскадрон! Не помню случая, чтобы казаки-сибиряки подкачали, подвели строй, нарушили присягу! Есть вам за кем тянуться и в дисциплине, и в боевом расчёте. Не стану вас томить, – ступайте, располагайтесь, отдыхайте. А уже завтра начнём службу, во имя Отечества!
Слова генерала отозвались в сердце каждого и, как только он закончил, без всякой команды раздалось:
– Ура-а-а!
Генерал в ответ разулыбался.
Молодые казаки довольные, что приняли их и с уважением, и вниманием разошлись и направились разместить коней в конюшне. Слышалось порой:
– Генерал, ты видел, – настоящий генерал! И такой внимательный! Во диво!
– Очечки у него смешные и шпоры, ты видел, – из серебра!
Команда конюхов принимала коней в повод, а невысокий человек, немолодой уже, в фартуке и в забавном картузе – коваль, суетился рядом и спрашивал казаков о том, есть ли кони со сбитыми копытами, плохо кованные или хромые. Таковых не оказалось и коваль, покрутив выцветший ус, отметил:
– Добре, казаки! Завтра каждую лошадку осмотрю, коли требуется перековать, поправить подковы, копытца, – всё наладим, как должно. Так, что послужите пока без лошадок, пешим строем, так его!
И рассмеялся, демонстрируя щербатый рот.
В большой казарме было много места, каждому выделили скрипучую металлическую кровать с матрацем и бельём. Молодые станичники были смущены, – не каждому в его молодые годы удавалось спать на чистой белой простынке.
Устроившись, молодые казаки вышли оглядеться вокруг.
Недалече от военного городка на Енисее, среди бурного его течения, был отмечен большой остров, получивший название Татышев. Название такое повелось от имени князька местного племени, проживавшего в то, давнее теперь время, вдоль Енисея. Племя это, малочисленное, занятое рекой, ловлей рыбы и охотой особо не перечило русским, а те и не трогали местных, помаленьку приобщая к своему присутствию в здешних местах.
С берега на остров был проложен понтонный мост и теперь, чуть ли не каждый летний день, исключая праздники и воскресенья, казачья сотня выезжала на остров, где был устроен полигон для скачек и отличная возможность для выпаса коней на свежей траве. Такие выезды любили и казаки, готовые с удовольствием поваляться в траве после выездки и кони, желающие похрустеть с усладой, свежей травой.
В городе было много интересного и необычного для казаков из станицы. Получив разрешение выйти в город или во время службы по поддержанию порядка, казаки с интересом наблюдали необычные для них события.
В городском парке в центре города каждый выходной день проходили футбольные матчи, которые с интересом смотрели зрители и тогда впервые смог увидеть Иван, как происходит спортивное состязание. Было это в диковинку.
Игра была простой и увлекательной: под крики зрителей молодые парни в красных, жёлтых и зелёных рубашках и чёрных трусах гоняли мяч по поляне и яростно вколачивали его в огороженные сеткой ворота, в которых метался высоченный парень в кепке и чёрных рубахе и трусах. Забавно было всё это видеть, многое было не понятно, но скоро разобрались в игре и кричали, подгоняя игроков и с восторгом ликовали, когда мяч влетал в сетку ворот – те или другие, а худой, жилистый парень в кепке, – голкипер, беспомощно валялся на линии ближних к стоящим казакам ворот. Был паренёк в воротах самым испачканным, но самым резвым, решительным и смотрел зорко за игрой, двигаясь в воротах вдоль прорисованной известкой линии. Парень в воротах вызывал уважение своей деловитостью, вовлечённостью в игру, особенно когда кидался в ноги, не страшась быть ушибленным, и хватал мяч в броске, прижимал к себе, как самую дорогую вещицу, свернувшись вокруг него клубком. Особенно восторженно приветствовали голкипера восторженные юные барышни. Иван смотрел на девушек в светлых платьицах и шляпках, иногда простоволосых, с лентами в волосах, отмечая с удивлением то, как они свободно себя ведут, заливисто смеются, что-то бойко обсуждают, и вспоминал Настю, отмечая, как отличаются городские девушки от станичных девчат.
Играли команды на стадионе «Сокол» у реки Кача, где на возвышении разместился спортивный клуб. Иногда для команд выставляли приз, – фарфоровую или серебряную тарелку или кубок, на которые собирали деньги любители футбола, местные богатые люди, коммерческие предприятия. Главным был супер-приз главы города и разыгрывался уже осенью в завершении сезона. После рекламы турнира у стадиона и определения, заявившихся для состязания команд, начинались игры, на которые стекался народ. Шумные сборища у стадиона беспокоили городские власти и к стадиону непременно выезжали в наряд казаки для поддержания порядка. Такие наряды на стадион для казаков, – молодым людям из дальних станиц губернии, были нарасхват, доставались в споре, сопровождались обидами, если долгожданный наряд отменяли.
Казаки пристрастились смотреть футбол и болели за команды «Спорт» и «Тренер», которые чаще всего побеждали другие команды – студентов и группу молодых людей под странным названием «Черепахи». Команда «Тренер», в которой играли хорошо экипированные и организованные парни, была самой мастеровитой. И, чаще всего именно эта команда побеждала уверенно соперников, часто с крупным счётом, одолевая в шумной, с матерками, в игре.
В городе работал кинотеатр, где впервые прибывшие на службу казаки увидели фильмы – странное под музыку действо на плоской белой стене. Люди на экране говорили беззвучно, открывая демонстративно рот и частенько строили гримасы гнева или радости, манерно вскидывали руки, падали навзничь на диваны, на пол, или в объятия партнёров. Фильмы поначалу смотрели с опаской, шарахаясь от рвущихся с экрана поездов и конских экипажей, но скоро попривыкли. После фильма многие стремились заглянуть за натянутый белый брезент и огорченные в раздумьях уходили прочь – за стеной из тряпки ничего не было кроме пыли и брошенной сломанной мебели.
В 1912 году электрическая энергия, которую стала вырабатывать первая городская станция, позволила освятить улицы, квартиры и казармы гарнизона города, скоро полыхнули в военном городке прожектора. Было это удивительно, когда осветились помещения казармы и двор, и плац, а скоро и улицы города засияли ночью на берегах реки.
Ещё более удивительным было, когда летом 1914 года за городом, на большой поляне на берегу Енисея, были устроены полёты аэроплана. Казаки направлялись в помощь полиции к месту полётов для поддержания порядка. На берегу у поляны с аэропланом собирались сотни возбуждённых любопытных горожан, суетились и шныряли среди взрослых мальчишки, барышни в шляпках с зонтиками от солнца с интересом разглядывали диковину и восторженно приветствовали авиаторов.
Иван был поражён увиденным. Впрочем, не только он один. Когда полувзвод казаков рысцой подъезжал к собравшейся на поляне толпе народа, над головой что-то резко зашумело и над всадниками низко, чуть ли не над самыми головами, раздувая траву, пролетел аэроплан, роняя, стремительно скользящую по земле, тень. Один всадник из казачьего разъезда запаниковал и кинулся вскачь, перепуганный летящим над головой аэропланом. Конь летел вытянувшись струной с припавшим к шее всадником, но самолёт плавно и казалось, неспешно скользя быстро опередил, как казалось, резво скачущую лошадь с наездником и стало понятно – от аэроплана не убежишь.
Скользнув над головами в шуме винтов, несколько чадя-поддымливая мотором, аэроплан плюхнулся на обширную выкошенную от травы поляну, подскочил, сделал горку и уже сел основательно и покатил, сминая траву, укладывая её потоком воздуха от винта. Кони заметались, рванулись вскачь, а сдерживаемые поводьями, стали приседать, вставать на дыбки. Казаки едва сдерживали их, крутили головами, будучи сами в нешуточном испуге. Многие зрители кинулись от места событий, в страхе озираясь, а отметив, что всё кончилось быстро и благополучно, смущённые, смеясь, возвращались на прежнее место у поляны с самолётом.
Аэроплан приземлившись, прокатился, шумя винтами по поляне, добежал до края, завернул киль, лихо развернулся и покатился, шумя винтом в сторону собравшихся у поляны зрителей. Когда самолёт стал приближаться к несколько оцепеневшей в испуге толпе, люди шарахнулись в испуге в стороны. Но аэроплан снова развернулся и скоро встал, едва вращая винтами.
Народ бесновался от восторга, пережив испуг. Когда же лётчик Казьминский, весь в кожаном одеянии, в шлеме с огромными очками, значительный, словно былинный богатырь, выбрался из своего аппарата, который называли странным словом «фарман» и ступил на землю, толпа поклонников не дала ему пройти мимо. Молодые люди, вероятно студенты, подскочили и взялись качать пилота, находясь в полном восторге. Иван понимал тех, кто так восторженно воспринимал первые реально увиденные полёты человека на аэроплане.
Увиденное и пережитое стоило того.
В казарме казаки долго спорили о том, что это забава такая – летать на аэропланах из реек, верёвок и тряпки, или какая-то польза будет от этих этажерок. Спор затянулся. Многим казалось, что забава пустая, и куда их можно приспособить эти шнурки-растяжки, фанеру обтянутую тряпкой, особенно в военном деле.
– Ты видал? Крыло у аэропланера обтянуто тряпкой, а в одном месте, я видел – дыра. Вот – крест дыра! Прям лоскут на ветру трепыхается, как у деда моего на драной шубе, когда он быстро вышагивает по станице, – перекрестился казак.
– Ой, да это тоже, что и в цирке – летающие акробаты, – заключили после жарких дискуссий казаки, отмечая, тем не менее, растущий интерес к новой забаве горожан.
– Вот в прошлом годе запускали воздушный шар. Тоже все дивились, да радовались, а кой кому даже удалось взмыть на шаре. Сказывали, что одна девка, так испугалась, что чуть из лоханки-то этой под шаром чуток не вывалилась. А что с этими шарами делать? Забава одна – смехотуля.
– Это ты, Никола, не прав, вставил слово Иван, – воздушный шар – отличное средство для наблюдения за противником. С него далече видно, что творит враг, к чему готовится.
– Да какой там, Ваня! Сказывали, что сбить его можно одной пулей! И привет! Вся эта затея падает на землю и наблюдатели в лепёшку.
Скоро, однако, противники авиации были сконфужены: в газете за июль 1914 года пропечатали, что авиатор Игорь Сикорский на своём четырехмоторном аэроплане «Илья Муромец» пролетел из Петербурга в Киев и обратно, менее, чем за сутки.
– Так это сколько вёрст-то отмахал аэроплан Сикорского? – задались вопросом и взялись расспрашивать знающих о том, как далеко Киев от столицы. Оказалось, что почти три тыщи вёрст в оба конца пролетел аэроплан за день и этому подивились, а когда узнали, что так был установлен новый рекорд перелётов, который пуще американского, кивали одобрительно и решили, что дело-то стоящее эта авиация.
При этом оказалось, что в самолёте сидели несколько человек. Из газеты узнали, что аэроплан может поднять в воздух и доставить за сотни вёрст почти десять пудов груза. Все тут же взялись считать, сколько мешков овса можно перевести и можно ли поднять в воздух коня. Выходило, что вполне можно перевести тридцать мешков овса, а если потребуется вести коней, то пару крепких жеребцов вполне может поднять механическая птица.
Но, всё, пересчитав, всё, обсудив да взвесив, решили казаки, что от Петербурга до Киева, коли будет надобно, казачий эскадрон, или даже дивизия верхами маханёт за пяток дней. Но, тем не менее, доберётся к месту, со всем своим имуществом и оружием, и урону противнику нанесёт не в пример поболее, того, что сможет свершить малосильное войско, доставленное к бою аэропланом.
На том и успокоились.
Три года пролетели в строевой подготовке, в постах, службе в военном городке. Жизнь казалось, текла неспешно, без каких-либо всполохов, пока не грянуло, как гром известие: