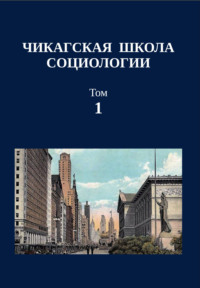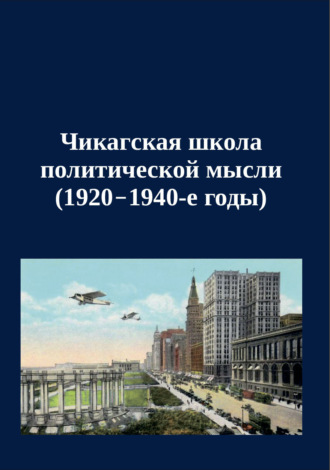
Полная версия
Чикагская школа политической мысли (1920–1940-е годы). Сборник переводов
В 1930-е годы Мерриам продолжал публиковать произведения, неизменно вызывавшие интерес политологического сообщества. Но в функционировании возглавляемого им департамента нарастали трудности. Отношения между Мерриамом и новым президентом Чикагского университета Хатчинсом развивались по нисходящей. Сказывались и разница в жизненном опыте и возрасте (Хатчинс возглавил университет в 30 лет), и столкновение амбиций, но главное – принципиальное различие во взглядах на миссию науки и образования. Хатчинс, сыгравший в дальнейшем выдающуюся роль в организации образования, философском осмыслении его задач и защите академических свобод, был убежденным противником сциентистских установок и ориентации процесса преподавания на решение практических задач в ущерб формированию ответственного гражданина.
О принципиальном характере расхождений между этими двумя незаурядными деятелями свидетельствуют их высказывания по поводу возможностей и перспектив эмпирически ориентированной политической науки. В предисловии к книге «Политическая власть» Мерриам писал:
«В последние годы появились огромные массы нового материала в области экономики, антропологии, истории, социологии, государственного управления, и эти факты бросают вызов тем, кто озабочен политической властью. Новые доктрины социальной среды, социального наследия, личности, похоже, опровергают старые концепции и выводы. Новые психиатрические данные, психологические, психобиологические факты, касающиеся природы человеческой личности, тесно связаны с комплексами власти и установками»[30].
Хатчинс напрямую полемизировал с этим оптимистическим ви́дением:
«Власть становится главным словом в политической науке; и предсказание того, что будут делать суды, заменяет справедливость как цель юриста и правоведа. Научный дух побуждает нас накапливать огромные массивы данных о преступности, бедности и безработице, политической коррупции, налогообложении и Лиге Наций в нашем стремлении к так называемому социальному контролю. Существенная часть того, что мы называем социальными науками, – это большие массивы данных, неосвоенных, несвязанных и бессмысленных»[31].
На фоне сложных отношений Мерриама с университетским руководством к концу 1930-х годов начал распадаться кадровый костяк Чикагской школы политических исследований. Наиболее болезненным был уход Лассуэлла и Госнелла, решивших, что Чикагский университет уже не является оптимальной площадкой для их профессионального и карьерного роста. В 1940 г. подал в отставку со своего поста и сам Мерриам. Уйдя на пенсию в 66 лет, он сохранял научную активность, много публиковался, выступал с лекциями в разных университетах, участвовал в работе благотворительных структур семейства Рокфеллеров. Мерриам умер 8 января 1953 г. после продолжительной болезни. В его архиве сохранилось несколько неоконченных рукописей научных работ, а также автобиографии.
Вклад Мерриама в развитие политической науки пользуется в настоящее время в Соединенных Штатах и других странах несомненным признанием, но при этом его труды чаще всего рассматриваются как достояние прошлого. На наш взгляд, это не совсем справедливо. По крайней мере, такие его книги, как «Новые аспекты политики» и «Политическая власть», заслуживают того, чтобы их читали и в XXI в.
Переводы, включенные в данный сборник, – лишь самый первый подход к знакомству с научным наследием основателя Чикагской политологической школы, который, конечно, не может дать достаточного представления о его творчестве. Статья «Современное состояние изучения политики», как уже было отмечено выше, имела программный характер. Ее актуальное значение можно суммировать следующим образом.
Во-первых, эта статья стимулирует к новому осмыслению критериев научности политического знания, которые сегодня, разумеется, во многом отличаются от идеала столетней давности. Дихотомия «факты vs ценности», две составляющие которой в 1930-е годы в кампусе Чикагского университета олицетворяли Мерриам и Хатчинс, неизбывна, и постоянные усилия все новых поколений исследователей проложить внутри нее верный курс направляют развитие научного знания в ту или иную сторону.
Во-вторых, спустя 100 лет после публикации статьи Мерриама вопрос о научно-информационной основе политических исследований обретает новую остроту. Да, по сравнению с теми массивами данных, к работе с которыми призывал Мерриам, использование big data для исследования электорального поведения и протестной активности, для выявления политических предпочтений и т. п. сопоставимо с квантовым скачком. Но, как и в те времена, овладение адекватными методами анализа и обработки таких данных, а также интерпретации получаемых результатов относится к числу насущных задач, стоящих перед политологами.
В-третьих, хотя междисциплинарность, казалось бы, должна считаться успешно реализованной установкой Мерриама, на деле частота призывов к междисциплинарности или к восстановлению дисциплинарных иерархий отражает определенную цикличность в развитии знания. В этом контексте вопрос о степени актуальности нового дисциплинарного синтеза важен для науковедческого анализа общественных наук и места в них политологии, в частности для понимания того, как в этих отраслях знания работают механизмы инклюзии и эксклюзии[32].
В-четвертых, по-прежнему сохраняет свою остроту проблема взаимодействия между экспертами-политологами и структурами власти на локальном, национальном и международном уровнях. Не секрет, что сообщества политологов и международников практически никогда не бывают полностью удовлетворены качеством ирезультативностью такого взаимодействия. Впрочем, и со стороны власти отношение к экспертам и их рекомендациям нередко оказывается амбивалентным. Весьма симптоматично в этом плане предостережение Вудро Вильсона, чья политическая карьера, служившая своеобразным эталоном для Мерриама, начиналась в академическом сообществе: «Чего я опасаюсь, так это правительства экспертов. Бог запрещает, чтобы в демократическом обществе мы отказывались от решения какой-либо задачи в пользу экспертов, ставя их выше правительства. Что мы есть, если передоверяем научную заботу о нас небольшой группе джентльменов, которые являются единственными, кто понимает суть дела? Поскольку мы не понимаем суть дела, мы не являемся свободными людьми»[33]. В сущности, отношения «власть – экспертное сообщество» также уместно рассматривать как дихотомию, сегодня ничуть не менее актуальную, чем в начале XX в. При этом консолидированность экспертного сообщества на разных уровнях, наличие многочисленных и диверсифицированных каналов внутридисциплинарной коммуникации, а также успешное взаимодействие политологов с гражданским обществом (от локального до глобального) в значительной степени влияют на то, насколько власть будет готова слушать и воспринимать рекомендации политических экспертов.
Второй из публикуемых текстов Мерриама – доклад «Урбанизм», прочитанный на торжественных мероприятиях в декабре 1939 г. в честь десятилетия открытия Корпуса социально-научных исследований в Чикагском университете, – далеко не столь масштабен, но тем не менее важен для понимания постоянного интереса его автора к социально-политическим исследованиям городских сообществ. В этом тексте также явно дает о себе знать диалог двух школ Чикагского университета – политологической и социологической – относительно изучения того, что Мерриам называл «избыточной витальностью» большого города, «прорывающейся наружу под колоссальным давлением».
Хотелось бы надеяться, что в обозримом будущем на русском языке появятся и другие произведения Чарльза Мерриама.
Гарольд Госнелл, хранитель методаГарольд Фут Госнелл родился 24 декабря – в рождественский сочельник – 1896 г. в Локпорте (штат Нью-Йорк) в семье методистского проповедника. Детство, школьные годы и часть студенческих лет он провел в Рочестере (штат Нью-Йорк), откуда, после получения степени бакалавра в местном университете, в 1918 г. был ненадолго призван в армию. По окончании военной службы Госнелл продолжил образование, поступив в Чикагский университет, в департамент политической науки, где в тот момент он оказался единственным аспирантом. Под руководством Чарльза Мерриама он подготовил и блестяще защитил диссертацию, которая в 1924 г. была опубликована[34] и произвела большой эффект в политологическом сообществе. «Антигероем» этой книги был политический босс республиканской партии в штате Нью-Йорк Томас Платт (1833–1910), дважды избиравшийся в Палату представителей и трижды – в Сенат. Уникальность феномена Платта состояла отнюдь не в его длительном пребывании в стенах Конгресса. Благодаря отлаженной до совершенства механике внутрипартийного клиентелизма, Платт, по его собственной оценке, выступил в качестве «политического крестного отца»[35] для целой когорты губернаторов штата, в числе которых был и будущий президент Теодор Рузвельт. Госнелл не был пионером изучения «политических машин», но его исследования (включая и более позднее, посвященное функционированию политической машинерии в Чикаго[36]) позволили раскрыть с максимальной полнотой суть этого феномена. Важное достоинство уже первой его книги состояло в комбинированном использовании техник опроса и сравнительного анализа, статистики и психологии[37]. Впрочем, в части обращения со статистическими данными это был, скорее, первый и не самый убедительный опыт, тогда как более зрелые исследования Госнелла выгодно отличались мастерским использованием методов статистического анализа.
Сразу после защиты диссертации (1922) Госнелл начал преподавательскую и научную карьеру в департаменте политической науки. Следуя в русле заявленной Мерриамом программы обновления дисциплины, Госнелл одновременно активно использовал инновационные подходы коллег, работавших на других факультетах, в частности Л. Тёрстоуна (факторный анализ), С. Стауффера (методика опросных исследований), У. Огборна (статистический анализ социальных и политических данных), Р. Парка (изучение расовых отношений)[38]. Новые подходы были реализованы в исследованиях электорального поведения американцев (первое из них подготовленно в соавторстве с Мерриамом), опубликованных в 1924 и 1927 г.[39] Две эти книги уместно рассматривать как дебют Чикагской политологической школы с ее бихевиоралистскими установками и ставкой на использование количественных методов.
Стоит особо остановиться на исследовании 1927 г. «Отказ от голосования», в рамках которого впервые в истории политической науки был поставлен эксперимент. Группа Госнелла опросила 6 тыс. жителей 12 районов Чикаго, собрав информацию о возрасте, материальном положении и политических предпочтениях. С учетом места жительства опрошенных Госнелл разделил выборку на экспериментальную и контрольную группы. Избирателям из экспериментальной группы было направлено большое количество разного рода уведомлений о необходимости зарегистрироваться на избирательном участке и проголосовать; члены контрольной группы таких уведомлений не получили. Затем Госнелл и его помощники собрали данные относительно электорального поведения избирателей каждой из групп на президентских выборах 1924 г. и на выборах муниципальных советников (олдерменов) 1925 г., используя записи избирательных комиссий о явке и отчеты наблюдателей. В экспериментальной группе были зафиксированы лишь незначительный рост явки на президентских выборах и существенно большая активность на выборах муниципальных советников. По оценке Госнелла, информационные материалы и призывы голосовать оказали наибольшее воздействие на наименее образованных и информированных избирателей, в частности на чернокожих, женщин иностранного происхождения и белых с низким уровнем дохода. Эти выводы для своего времени были весьма ценными, но поистине инновационным был метод исследования. Согласно Дж. Хансену, данное исследование даже по прошествии многих десятилетий остается «одним из самых элегантных во всей политической науке»[40].
В 1930 г. Госнелл опубликовал сравнительное кросс-национальное исследование «Почему Европа голосует»[41] – одно из первых в своем роде, – в котором проанализировал данные по явке избирателей на выборы в Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и Швейцарии. Он уделял особое внимание выявлению взаимосвязи между пропорциональным представительством и активностью избирателей, аргументируя гипотезу, согласно которой именно система пропорционального представительства стимулирует явку. В то же время за скрупулезным анализом статистических данных и погружением в особенности электоральных систем каждой из стран у Госнелла стояло стремление осмыслить сущностные проблемы внутренней и внешней политики государств постверсальской Европы. Этот интерес, очевидно, сыграл свою роль в том, что со второй половины 1940-х годов он вплотную занялся международной аналитикой в качестве эксперта Государственного департамента.
Вне всяких сомнений, Госнелл внес выдающийся вклад в разработку и использование количественных методов в социальных исследованиях. При этом он занимал твердую позицию в дискуссиях 1920–1940-х годов об уместности и релевантности таких методов в познании политических феноменов. Описывая суть разногласий, Дэвид Истон называл ориентированных на работу с фактическими данными последователей программы Мерриама «гиперфактуалистами», которым противостояли те, кто отстаивал решающее значение социальной и политической теории[42].
В этом контексте статья Госнелла «Статистики и политологи» (1933), перевод которой публикуется в настоящем сборнике, вполне может рассматриваться как своеобразная апология количественных методов. Разумеется, Госнелл избегает того, чтобы напрямую полемизировать с критиками и – тем более – в чем-то оправдываться. Напротив, в информационно насыщенном тексте он стремится показать, что движение квантитативного анализа политических процессов набирает силу и ширится, его потенциал очень велик, а эвристическая значимость получаемых данных позволяет говорить о новых горизонтах политического познания.
В 1935 г. вышла новая книга Госнелла «Негритянские политики: подъем негритянской политики в Чикаго»[43], к которой до сих пор активно обращаются исследователи расового измерения политической жизни Соединенных Штатов. Даже в XXI в. она включается в студенческие силлабусы во многих американских университетах. В этой работе Госнелл обстоятельно рассмотрел особенности политической организации и лидерства в афроамериканском сообществе «города ветров», проследил его взаимодействие с политическими машинами двух основных партий и проанализировал опыт афроамериканцев, занятых в структурах городского управления, а также избранных в федеральные органы законодательной власти[44]. Госнелл сумел убедительно показать, что фактор расовой солидарности является ключевым в процессе политического самоопределения афроамериканского сообщества, причем важнейшую роль в мобилизации электората играют церкви, чьими прихожанами являются главным образом чернокожие, а также негритянская пресса. Исследователь зафиксировал важные изменения в политических предпочтениях афроамериканцев, до начала 1930-х годов составлявших электоральный ресурс Республиканской партии. Однако благодаря мероприятиям Нового курса наметился явный сдвиг в политической лояльности афроамериканского сообщества в пользу демократов. Одновременно Госнелл зафиксировал и явный рост расового самосознания белых чикагцев, проявившийся на фоне растущей вовлеченности афроамериканцев в политическую жизнь города.
Исследование участия афроамериканцев в политических процессах способствовало росту популярности Госнелла в качестве преподавателя. В частности, Роберт Мартин – первый чернокожий в американском политологическом сообществе – целенаправленно стремился к подготовке докторской диссертации именно под руководством Госнелла как единственного в то время специалиста в Соединенных Штатах, в чью сферу научных интересов входила «черная политика»[45]. Другой выпускник департамента, Дэвид Трумэн, впоследствии – президент Американской ассоциации политической науки, известный своим вкладом в развитие теории политического плюрализма, в письме Госнеллу (1980) вспоминал:
«Это была замечательная группа студентов, во многом учившихся друг у друга, но реальные стимулы и творческая атмосфера были созданы Вами и Вашими коллегами. … С тех пор не было другого подобного департамента политической науки ни в Чикаго, ни где-либо еще»[46].
Как мы отметили чуть ранее, Госнелл продолжал разрабатывать тематику политических машин и в 1930-е годы. Обновленная постановка исследовательской проблемы представлена в его статье «Политическая партия vs политическая машина» (1933; перевод публикуется в настоящем сборнике), а книга «Машинная политика: модель Чикаго» (1937) стала принципиальным продвижением в плане методологии по сравнению с «Боссом Платтом». Анализируя эффективность действия политических машин демократической партии в Чикаго, Госнелл стремился выявить их влияние на различные группы избирателей с теми или иными характеристиками (пол, образование, материальный статус, занятость). Для решения этой задачи исследователь применял методы частичной корреляции и факторного анализа, осуществляя расчеты с использованием пяти регрессоров. Уильям Огборн – несомненный лидер той эпохи в использовании статистических данных и количественных методов в социальных науках, оказавший на Госнелла значительное влияние, писал в предисловии к «Машинной политике»: «Вероятно работа доктора Госнелла станет сигналом к общему движению вперед, которое, безусловно, окажется однажды неизбежным в перспективной области политической науки»[47].
Огборн оказался прав. Но прогресс в использовании количественных методов в политических исследованиях нельзя связать только с индивидуальным вкладом Госнелла. Бихевиоралистский поворот – центральное направление усилий адептов Чикагской школы политической науки 1920-х – начала 1940-х годов – поставил в центр внимания исследователей политическое поведение массовых групп и тем самым актуализировал поиск измеримых показателей этого поведения, связанных, прежде всего, с участием в электоральных процедурах. Впоследствии подобным образом и лингвистический поворот в социальных науках дал мощный толчок развитию перспективных исследовательских методологий. И даже когда Истон в 1970 г. заявил об исчерпании программы бихевиоралистской революции[48], имея в виду усвоение политологическим сообществом ее основных принципов и одновременно преодоление установки на перестройку политической науки на основе модели естественно-научного знания, ценность сформированного при активном участии Чикагской школы методического инструментария под сомнение не ставилась. Другое дело, что этот инструментарий (техника в терминах Истона) не должен подменять сущность политического.
Насколько можно судить, наиболее значимые исследования Госнелла, опубликованные во второй половине 1930-х годов, отразили и его практическую вовлеченность в избирательные кампании на уровне города. Госнелл несколько раз выступал в качестве политического консультанта и даже фактического руководителя избирательных штабов ряда чикагских политиков, баллотировавшихся в олдермены (муниципальные советники). Его опыт политтехнолога по большей части удачным не был, но зато Госнелл во всех деталях смог познакомиться с реальной силой местных политических машин Демократической и Республиканской партий (к последней он формально принадлежал, хотя на практике очень часто действовал вразрез с партийной линией).
Однако достигнув расцвета как исследователь, Госнелл столкнулся с тем, что его достижения не находят соизмеримого признания в Чикагском университете. Гэбриел Алмонд так рассказывал об этом:
«Гарольд Госнелл был очень застенчивым и скромным человеком, которого в то время явно недооценивали. Тот факт, что он был столь погружен в количественный анализ, рассматривался как чисто техническое достижение, несравнимое с теми видами исследований, которые проводились другими членами департамента. Он был просто очень продуктивен, одна книга за другой, но на самом деле его не воспринимали всерьез. На самом деле его не считали фигурой большого творческого и фундаментального значения»[49].
Госнелл так и не получил в Чикаго профессорскую должность. Казалось, что в Департаменте политической науки ему (особенно после отъезда из Чикаго Лассуэлла) все же предстояло стать преемником Мерриама. Однако конфликт между Мерриамом и президентом университета Робертом Хатчинсом, нараставший на протяжении 1930-х годов, сделал этот естественный ход событий крайне маловероятным. Хатчинс весьма неделикатно упрекал Мерриама в том, что он заполнил департамент «монументами своим преходящим капризам»[50], характеризуя таким образом эмпирические исследования Лассуэлла и Госнелла. В результате, вслед за Лассуэллом, Госнелл стал рассматривать варианты продолжения карьеры за пределами Чикагского университета. В 1941 г. он взял продолжительный отпуск, чтобы получить возможность работать в структурах федерального правительства. Сначала это было Бюро по управлению ценообразованием (Office of Price Administration). Спустя год, уже после вступления США во Вторую мировую войну, Госнелл принял решение окончательно перейти на государственную службу (с 1942 по 1946 г. – в Бюро по бюджету) и подал в отставку с преподавательской должности в Чикаго. Но даже работая в федеральных ведомствах, он продолжал публиковать значимые исследования[51], подготовка которых была начата еще в Чикагском университете.
В 1942 г. Госнелл опубликовал статью «Символы национальной солидарности», которая стала реакцией ученого на нападение Японии на Перл-Харбор 7 декабря 1941 г. и вступление США во Вторую мировую войну. Он рассмотрел в этой статье ключевые проблемы сплочения американского общества в условиях военного кризиса. Принимая во внимание базовые идеи символического интеракционизма, Госнелл относит к символам национальной солидарности вербальные и невербальные репрезентации, формирующие у граждан чувство лояльности к их государству. Госнелл выстраивает свой анализ вокруг провозглашенных президентом США Франклином Рузвельтом «четырех свобод» – свободы выражения мнений, свободы вероисповедования, свободы от нужды и свободы от страха. Сфокусировав внимание на «проблемных» с точки зрения национального сплочения расовых и этнических группах – афроамериканцах, эмигрантах – выходцах из стран, с которыми США находились в состоянии войны, Госнелл показал, что значимой составляющей военного и политического успеха является способность правительства объяснить различным группам, что будут означать для них победа или поражение в войне.
В том же 1942 г. Госнелл подготовил конфиденциальный доклад для администрации Рузвельта «Третий Интернационал об изменениях в его политике». Текст доклада можно найти в архиве Госнелла (box 69, folder 11), хранящемся в библиотеке Чикагского университета[52]. Для исследователей, изучающих подоплеку решения И.В. Сталина распустить Коминтерн в качестве жеста, направленного на укрепление доверия между союзниками по антигитлеровской коалиции, данный доклад может иметь немалую ценность. Еще больше внимания отношениям с СССР Госнелл стал уделять во второй половине 1940-х годов, перейдя на службу в историко-аналитическое подразделение Госдепартамента и одновременно – в особое подразделение Американского университета в Вашингтоне – исследовательский офис специальных операций, чей тематический профиль включал ведение психологической борьбы, изучение опыта партизанских войн и антиповстанческой стратегии.
В 1960 г. Госнелл оставил государственную службу, а в 1962 г. принял приглашение своего бывшего докторанта Роберта Мартина занять профессорскую должность в университете Говарда в Вашингтоне. Там он вернулся к изучению участия афроамериканцев в политической жизни США, что было чрезвычайно актуальным в условиях развертывания массового движения за гражданские права чернокожих. Свою преподавательскую деятельность Госнелл завершил в 1970 г.
Последними крупными научными трудами Госнелла стали политические биографии президентов Франклина Рузвельта[53] и Гарри Трумэна[54], хотя между публикацией первой и второй прошло почти 30 лет. Через обе книги красной линией проходит тема работы этих лидеров с избирателями, отражающая давний исследовательский приоритет автора. Но в биографии Рузвельта, которого Госнелл представляет чемпионом электоральных кампаний, эта тема абсолютно доминирует, тогда как мероприятия «Нового курса» предстают лишь фоном, хотя именно их содержательные результаты имели определяющее значение для президентских выборов 1936 г. (в значительной степени – для выборов 1940 г.), а также выборов в Конгресс 1934 и 1938 гг. Опубликованная в 1980 г. биография Трумэна, в 2,5 раза превышающая по объему книгу о Рузвельте, выглядит более сбалансированной. Глава о втором президентском сроке Трумэна содержит много ценной фактологической информации и наблюдений, отразивших, очевидно, инсайдерский опыт Госнелла в Госдепартаменте.
В 1995 г., еще при жизни Госнелла, Секция политической методологии Американской ассоциации политической науки учредила в его честь специальную премию (Harold F. Gosnell Prize of Excellence). Премия Госнелла ежегодно присуждается тем исследователям, которые на конференции APSA представили лучший доклад с точки зрения методологии. Такая оценка вклада Госнелла стала признанием его выдающихся достижений в практическом применении количественных методов анализа в политических исследованиях.