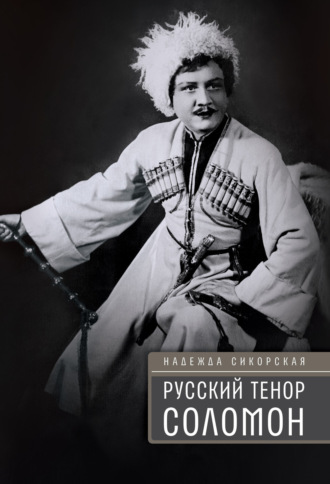
Полная версия
Русский тенор Соломон
В 1913 году мне впервые пришлось пережить горечь расставания: мой любимый дядя Шлоимка, младший брат отца, которого звали Мотл, по-русски Матвей (не знаю, почему меня записали Марковичем), уезжал в Бельгию, в город Льеж, учиться там в университете на адвоката. С ним уезжала и его жена, тетя Рахиль, дома мы звали ее Раечкой. Каким образом, спросите вы, мог местечковый еврей при царском режиме ехать учиться в Европу? Понимаю ваше удивление! Меня самого последнее время страшно занимает этот вопрос, но ответа на него я, увы, не знаю, а спросить уже не у кого… Но сам факт его спокойного и совершенно легального отъезда означает, что такая возможность была. А вот выучиться на адвоката возможности у еврея в царской России не было, потому и уезжали. Тогда, в шестилетнем возрасте, я, конечно, такими вопросами не задавался. Я очень любил дядю Шлоимку, так как из всех моих дядь и теть он был ближе мне и по возрасту, и по характеру – о его целеустремленности вы уже, наверно, смогли составить мнение, но при этом это был очень веселый общительный человек с прекрасным чувством юмора, любитель всяких розыгрышей и фарсов. Несмотря на большую загруженность, а он очень много и усердно занимался, дядя Шлоимка всегда находил время поиграть со мной и никогда не приходил к нам без хоть маленького, но гостинца.
Поэтому, когда однажды вечером он сообщил, что уезжает в какую-то неизвестную мне Бельгию, а если бы он сказал, что отправляется на Луну, это не произвело бы на меня большего эффекта, горе мое было беспредельным. Видя, что я расстроен, он и сам расстроился и, чтоб утешить меня, предложил посидеть со мной, когда я лягу спать, и рассказать новую сказку. Но мне было не до сказок, мне важно было понять, что заставляет человека уехать из родного дома неизвестно куда. Улегшись в постель и крепко держа дядю Шлоимку за шею, я шепотом спросил:
– Ну чем тебе плохо тут, в Златополе, на что далась тебе эта Бельгия?
– Видишь ли, Соломоша, – так же шепотом ответил он, – каждый человек должен идти своей дорогой и брать от жизни все, что она ему дает. Мне выпала возможность вырваться отсюда, поехать в Европу, посмотреть, как другие люди живут, – как же можно упустить такой шанс?
– Но неужели тебе не страшно ехать? Ведь ты там будешь совсем один, без семьи, без знакомых…
Очевидно, я так точно повторил интонации моей мамы, активно отговаривавшей Шлоимку от этой поездки, что он расхохотался:
– Ну ты прямо артист! – После чего приподнялся на локте и, сразу посерьезнев, сказал: – Конечно страшно, Соломон. Но я уверен, что смогу стать очень хорошим адвокатом, а здесь мне это вряд ли удастся. Все говорят, что у меня талант, а зарывать свой талант в землю грех, да и просто глупость. Вот и ты, когда придет момент принимать решения, думай о том, хочется ли тебе прожить просто жизнь, в чем тоже нет ничего постыдного, или же хватит смелости замахнуться на Судьбу.
После чего он снова перешел на шутливый тон и, звонко чмокнув меня в щеку, заключил:
– Но до тех пор, когда тебе придется задумываться о таких вещах, я уже сто раз вернусь в Златополь!
Увы, этому обещанию не суждено было сбыться. Не успел дядя Шлоимка проучиться в Льеже и года, как в Бельгию вошли немцы, и он вынужден был бежать в Лондон, как он думал тогда и писал нам, «на несколько дней, пока ситуация не рассосется». Но ситуация, как известно, не рассосалась, и несколько месяцев спустя он был принят в Лондонский университет как бельгийский беженец, отучился и получил диплом. Письма от него стали приходить все реже, а потом и совсем прекратились. Из обрывочных сведений, которые нам удалось получить, мы знали, что он так и остался в Лондоне, женился, что у него родились две дочери и сын и что нашу общую фамилию он сократил до Хром. Знали мы и то, что он стал активным членом движения «Рабочий сионизм», основоположники которого – два еврея, один из Кишинева и другой из-под Полтавы – полагали, что экономика еврейского государства должна строиться на принципах социализма. Разумеется, о государстве тогда и речи не было, так что рассуждения были чисто теоретическими.
А жизнь шла своим чередом. В 1915 году, то есть когда мне было восемь лет, благодаря вездесущим Бродским евреи Златополя были предупреждены о намечавшемся погроме и, помня о кишиневском кошмаре 1903-го, не стали терять времени: кто-то сразу покинул город, кто-то спрятался у наших украинских соседей, с которыми, надо сказать, мы всегда жили в мире и согласии. Нашу семью укрыли Голобородьки – их дочь часто приходила к моей маме погрызть семечек и посудачить. Мне повезло: я не увидел потных, красных от возбуждения рож погромщиков, не стал свидетелем никаких бесчинств, не получил казацкой шашкой по спине или по лицу. Но из подвала, заполненного вареньями и соленьями, на которые бабушка Голобородек была большая мастерица, я слышал, как распахнулась входная дверь и пьяный голос крикнул:
– Жиды е?
– Да яки тоби жиды? – не растерялась хозяйка. – Чи ни бачишь? Ходи, ходи с хаты.
Парень загоготал, прихватил лежащую на столе дыню, и дверь хлопнула еще раз.
Я понял, что опасность миновала, но ненависть, вложенная погромщиком в слово «жид», которое, кстати, на украинском языке не имело такого уничижительного оттенка, как на русском, и означало просто «еврей», – эта непонятная мне ненависть особым, специфическим звуком сохранилась в моих ушах на всю оставшуюся жизнь и страшным, поминальным набатом отдается по сей день, стоит мне услышать слово это в быту или наткнуться на него в литературе. Также на всю жизнь поселился в животе свернувшийся плотным комком страх, который, в зависимости от обстоятельств, то, кажется, совсем исчезает, то пудовой гирей давит на сердце, на все мое существо.
Ни тогда, ребенком, ни сейчас я не мог и не могу понять, почему мы должны были прятаться по подвалам и почему даже самые лучшие, добрые, порядочные из наших соседей ограничивались тем, что прятали нас, – за что им, конечно, обеспечено место среди праведников! – но ни разу не преградили дорогу бандитам. Не мог я понять и того, за что нас, не каких-то абстрактных евреев, а нас, конкретную семью Хромченко, никому не делавшую зла, так ненавидели совершенно незнакомые люди, готовые нас громить, бить, насиловать, убивать?!
Как выяснилось утром, тот погром был одним из наименее страшных – почти никто не пострадал, если не считать разбитых окон нескольких лавочек и вытоптанных цветов в садах. Тем не менее несколько месяцев спустя дед Ханина сказал маме (бабушка Ривка к этому времени умерла): «Если один раз пронесло, это не значит, что и второй пронесет. Надо уезжать, Ханночка». И мы стали собираться в Одессу.
В Одессе нас приютил дальний родственник, человек набожный, «самых строгих правил». Однажды, услышав, как я напеваю себе под нос, он сказал отцу тоном, не допускающим возражений: «Вашему мальчику надо петь в синагоге», и отвел меня к ребе. Так на десятом году жизни я получил первую работу: меня взяли в синагогальный хор. Позже я узнал, что Карузо тоже начал свою карьеру в хоре, правда в церковном, и зарабатывал по десять лир за участие в службе. Понятия не имею, что представляли собой эти десять лир в Италии в конце девятнадцатого века, но я, в Одессе в начале века двадцатого, с гордостью получал «жалованье» продовольственными пайками и приносил домой сахар, крупу, мацу – «кормил семью»… Кстати, я и сейчас заказы, которые нам под праздники выдают в институте, называю пайками, и Надюля всегда меня поправляет и очень сердится, но разве суть изменилась? Ведь если бы можно было пойти и купить все в магазине, да еще было бы на что, так не нужны бы были ни заказы, ни пайки! Но я опять отвлекся.
Через несколько месяцев после нашего переезда в Одессу до нас дошел слух, что в Златополе произошел-таки еще один погром, на этот раз не такой «невинный»: не предупрежденные заранее, не все успели спрятаться, и несколько человек были до смерти забиты кнутами, многие покалечены. Но страшнее всего для меня было то, что Буся, наш тихоня Буся Гольдберг, которому вместе с его скрипкой всего несколько метров оставалось до спасительного погреба, не добежал и попался в лапы пьяных гадов, которые, расколов скрипку о мостовую, топором отрубили Бусе указательный палец на правой руке. Кто знает, может быть, вместе с этим пальцем мир лишился нового Яши Хейфеца, Иегуди Менухина или Давида Ойстраха? Точно известно одно: артистической звезде Буси Гольдберга не суждено было взойти…
Неделю спустя семьи Буси и Додика тоже перебрались в Одессу, и наша троица воссоединилась, но трио распалось навсегда. Каждый раз, когда мой взгляд падал на обрубок на Бусиной руке, я чувствовал, как подозрительно напрягается комок в животе…
И все же я был счастлив: жить в Одессе, большом городе, о котором я столько слышал, где по одним улицам со мной ходило столько замечательных людей и где был оперный театр! Никогда не забуду свой восторг, когда на углу Дерибасовской и Ришельевской я обнаружил магазин Кеммлера, торговавший исключительно новофонографами Пате. Да еще и море, и жареные бычки на пляже, и знаменитая лестница, по которой можно было скакать, – о чем еще мог мечтать мальчишка?!
Кантором в синагоге, где я «подрабатывал», служил очень симпатичный человек, высокий красавец с черной бородой по фамилии Рабинович, казавшийся мне глубоким стариком, хотя было ему от силы лет сорок, и обладавший прекрасным сочным баритоном. Он как-то сразу ко мне проникся, может, почувствовал родственную певческую душу, при каждой возможности давал мне петь соло, да и в паек часто докладывал лишнюю пачку соли или коробок спичек. Я очень к нему привязался, ведь он был единственным известным мне человеком, по-настоящему умевшим петь, и его мнение было для меня законом. Поэтому, когда однажды после утренней службы – в синагоге это называется шахарит – он подозвал меня и, не особенно подбирая слова, заявил, что я не должен больше петь в хоре, это прозвучало как гром среди ясного неба. Я был так потрясен, растерян, расстроен, что не нашел ничего лучше, чем сесть и зареветь. Тут только Рабинович понял, какой эффект произвели на меня его слова, и тоже расстроился:
– Не плачь, Соломоша, дорогой, – утешал он меня и все пытался всунуть в мой сжатый кулак свой носовой платок. – Я же не говорю, что ты совсем не должен петь, я говорю лишь, что ты не должен петь в синагоге!
– А где же мне еще петь, дома на кухне? – довольно зло произнес я сквозь слезы.
Но Рабинович и не подумал обидеться. Наоборот, он весело расхохотался, взял в ладони мое красное распухшее лицо и заставил меня посмотреть ему в глаза.
– Не на кухне, дурачок, – сказал он очень ласково, – а в опере!
– В опере?! – моему изумлению не было предела. Только что мне казалось, что жизнь кончена, а оказывается…
– В опере, – продолжал между тем Рабинович, и лицо его приняло мечтательное выражение. – На большой сцене, в прекрасном костюме, перед сотнями слушателей… Цветы, аплодисменты… Если я хоть что-нибудь понимаю в музыке, то у тебя, Шломо, большое будущее. Твой чудный, чистый голос обещает стать прекрасным тенором, а отличный слух и музыкальность помогут вырасти в настоящего певца. Но только… – Тут он, видимо, спустился с облаков на землю и уже совсем другим, обычным строгим голосом добавил: – …для этого придется много и упорно работать. Тебе надо будет быть в семь раз лучше остальных, чтобы чего-то добиться в жизни.
То, что звуки, которые я издавал ртом и горлом, имеют прекрасное, «научное» название «тенор», стало открытием. Но эта мысль лишь промелькнула в сознании и улеглась на одной из его дальних полок. Спросил же я о другом.
– А почему?
– Что почему?
– Почему надо быть в семь раз лучше остальных?
– Потому, Соломоша, что ты, мы с тобой… – Тут он глубоко вздохнул и сказал: – Это ты сам, увы, когда-нибудь поймешь.
– А как я узнаю, что я в семь раз лучше? – не отставал я.
– Поверь мне, это ты будешь знать со всей определенностью, – торжественно сказал он. – А сейчас меня волнует другое.
– Что же? – спросил я, с надеждой глядя на него и ожидая еще чего-то невероятного.
– То, что ты не спрашиваешь о том, как этого добиться.
Это было правдой, и мне стало стыдно. Наверно, я жутко покраснел, потому что кантор потрепал меня по голове и сказал:
– Тебе нужно будет учиться как следует, у профессионала.
– А разве вы не профессионал? – робко спросил я.
– Ой, Шломо, если бы я был профессионалом, то пел бы не в этой синагоге, а… – Рабинович мечтательно закатил глаза, – …в Большом театре!
– А где он, этот большой театр?
– В Москве. Но чтобы петь там…
– Надо быть в семь раз лучше, чем все остальные, – закончил я за него.
– Вот именно! – подтвердил мой первый ментор. – Но у меня есть план.
* * *План кантора Рабиновича был прост в своей гениальности, но совершенно, как мне казалось, безнадежен.
Как раз в то время в Одессу вернулся итальянский баритон Дельфино Менотти. Вернулся – потому что он уже жил там раньше в течение нескольких лет, преподавал в консерватории, а потом уехал в Бостон. Там у него начались какие-то проблемы с горлом, и вот он вернулся – к восторгу всех одесситов, которые считали его своим. Несмотря на проблемы и возраст, ему было уже к шестидесяти, он должен был один-единственный раз выступить в Оперном театре, в «Травиате». Можете представить себе, КАКОЕ это было событие! Весь город был увешан афишами, спекулянты наживались на билетах, дамские портнихи не покладая рук кроили новые туалеты для счастливых их обладательниц, чьи солидные супруги тем временем почти добровольно лишали себе десертов, чтобы влезть во фраки и смокинги.
Помните старый анекдот, как встречаются два еврея и один другого спрашивает:
– Изя, что ты думаешь о Карузо?
– Да так, ничего особенного, голос как голос.
– А ты сам-то его слышал?
– Сам не слышал, но мне Хаим напел…
Так вот, этот анекдот появился именно в те дни, только тщеславные одесситы для пущей важности заменили менее известного Менотти на «уж точно уж звезду» Карузо.
Звезда не звезда, но в городе был ажиотаж и только и разговоров, что о заезжем итальянце. В его честь устраивались торжественные обеды, сам генерал-губернатор пригласил его к себе в гости. И вот бедный скромный кантор Рабинович задался целью устроить мне прослушивание у маэстро. Но для этого мне нужно было пройти несколько, как мы бы сейчас сказали, инстанций. Сначала Рабинович отвел меня к знакомому ребе, которому я спел «Фрейлехс» – веселую песню, которую поют на еврейских свадьбах. ♫ Несмотря на то что песня веселая, ребе прослезился, дал мне пакет леденцов и отвел к главному раввину Одессы. На этот раз я пошел с Додиком, и мы исполнили два раза подряд очень грустную песню «Друг», на идише «Фрайнт», про друга Мойшеле. Главный раввин рыдал, накормил нас вкуснейшим обедом, а затем попросил обождать в соседней комнате и долго совещался с первым ребе и с Рабиновичем. Наконец Рабинович появился и заговорщически подмигнул нам:

https://solomonkhromchenko.com/freilehs/
– Ну что, артисты, заждались? Пошли!
Понятно, что я умирал от желания узнать, о чем они там договорились, но он молчал, а спросить я не решался. И только уже у самой нашей синагоги он посмотрел на меня оценивающе, нахмурился и сказал:
– Вот что, Шломо, ты сегодня-завтра не пой, вообще больше молчи, хорошо? И попроси маму сварить тебе куриный бульон. А через два дня мы поедем к вдове Бродского.
– ?!
Если бы он сказал мне, что мы поедем к Господу Богу, я бы не был больше удивлен. Собственно, Бродский и был в наших глазах царь и бог, всесильный и всемогущий, а его вдова, соответственно, исполняющей его обязанности.
Прощаясь, Рабинович сказал очень серьезно:
– Ты уж постарайся, Шломо, подготовься. Может, вся твоя жизнь зависит от этой встречи.
«Жизнь или судьба» – вспомнились мне слова дяди Шлоимки. Нужно ли говорить, что после такого напутствия я две ночи не спал, днем рта не открывал, а только слушал и слушал диск Карузо, стараясь впитать каждый звук, каждый нюанс, каждую интонацию. Ну и бульона выпил целую кастрюлю.
Два дня спустя Рабинович заехал за мной на телеге – неслыханная роскошь! – и мы отправились. Дом Бродских – не дом, дворец! – располагался, естественно, на Дерибасовской, где же еще! Мы проезжали по знакомым улицам, каштаны кивали нам, прохожие улыбались, дети весело играли в Городском саду под надзором фребеличек – так называли воспитательниц детских садов, работавших по методу немецкого педагога Фребеля… Но ничего этого я не видел: от страха свело живот, и я с ужасом думал о возможных катастрофических последствиях. Мысль о том, что все может сложиться удачно, даже не приходила мне в голову: главное правило еврея – всегда готовься к худшему. Телега остановилась.
– Пойдем, Соломон, – сказал Рабинович торжественно. Видно было, что он тоже очень волнуется.
* * *Как описать «сцену у мадам Бродской»? Я смутно помню, как вдруг ставшие ватными ноги взнесли меня по широкой мраморной лестнице, как я разрывался между желанием залпом выдуть графин прохладного вишневого морса, предложенного кем-то из прислуги, и боязнью, что потом мне захочется в туалет, а такого конфуза надо было любой ценой избежать. Зато удивительно ясно помню момент, когда массивные двери распахнулись и на пороге возникла элегантная пожилая дама, приветливо мне улыбавшаяся.
– Ну здравствуй, будущая знаменитость! – сказала она. – Посмотри на меня внимательно и хорошо запомни, а то, может, через несколько лет в толпе поклонниц и не узнаешь!
Она первая рассмеялась своей шутке, и весь мой страх, всю скованность как рукой сняло. Я весело проследовал за ней в кабинет – «бывший кабинет моего мужа». Там она предложила Рабиновичу обитое бархатом кресло и сама села в такое же. Мне страшно понравилась элегантная раскованность ее позы, я решил взять ее на заметку.
– Давай, Соломон, покажи, на что ты способен.
Бросив быстрый взгляд на Рабиновича и получив от него утвердительный кивок, я затянул уже известного вам «Фрайнта». Мадам Бродская послушала несколько минут с самым серьезным видом, а затем остановила меня:
– Ты чудно поешь, Соломон, и песня проникновенная, только итальянцу ее не понять. Ты должен спеть что-то знакомое ему, чтобы он мог по достоинству оценить твое умение. Есть ли у тебя в запасе что-то подходящее?
В запасе у меня был весь доступный на пластинках репертуар Карузо, поэтому я тут же и с большим воодушевлением исполнил неаполитанскую песню «Моя Кармела» ♫, которая самому мне очень нравилась. Когда в конце я выдал верхнее ля-бемоль и соль, мадам Бродская зааплодировала, обняла меня, потом отодвинула немножко и, заговорщически подмигнув Рабиновичу, сказала:

https://solomonkhromchenko.com/my-carmela/
– Ну, Соломон Хромченко, не стыдно будет показать тебя итальянцу. И ни одна Кармела тебя не бросит. А вот завистников опасаться придется. И если я хоть что-то в чем-то понимаю, то Златополь будет гордиться тобой, да и не только Златополь. Это говорю тебе я, вдова Лазаря Бродского! Как жаль, что мой муж не дожил до этого радостного дня!
Вам должно быть понятно мое внутреннее ликование, Рабинович тоже сиял от счастья. Мадам же Бродская помолчала пару минут, а потом спросила:
– А у тебя билет на спектакль есть? Надо же тебе знать, с кем ты имеешь дело, прежде чем заявиться к этому Менотти.
«Да откуда же было взяться билету?» – подумал я, да так и сказал.
– Откуда, откуда, – усмехнулась она. – От верблюда.
Потом взяла со стола лист бумаги и быстро написала на нем несколько слов:
– На вот, зайдешь к администратору Оперного театра, он даст тебе контрамарку. Да, кстати, а в чем ты собираешься явиться на прослушивание? Надеюсь, не в этом… – она пожевала губами, подбирая слово, – …одеянии?
Бурю пережитых мною в тот момент чувств трудно описать. Не успел я еще переварить восторг от возможности попасть на спектакль заезжей знаменитости, как мадам Бродская вогнала меня в краску, напомнив о непрезентабельности моего внешнего вида: представляю, на кого я был похож в отцовском пиджаке со слишком короткими рукавами и в давно утративших первоначальный цвет и вытянувшихся на коленках брюках. Правда, все это было безукоризненно отстирано и отутюжено заботливыми мамиными руками, но, как ни крути… Мне было стыдно, хотя я понимал, что стыдиться нечего, и совершенно неясно было, как выходить из этой ситуации. Выход нашла сама мадам Бродская.
Она взяла со стола еще один лист бумаги, снова что-то написала и протянула мне.
– Поезжай к моей портнихе, уж она будет знать, что с тобой делать, – сказала она и похлопала меня по плечу.
Это было слишком. Я представил себе, какой нагоняй получу от деда, если приму такой царский подарок, и отчаянно замотал головой, протягивая листок обратно.
– Что такое? Что ты головой мотаешь, как ишак?
– Не могу я, ну не могу! За контрамарку спасибо вам огромное, а вот портниха – это уже слишком, честное слово, да и дедушка заругает, – бормотал я, стараясь не встретиться взглядом с почтенной дамой.
– Так что же все-таки: «слишком» или «дедушка заругает»? – лукаво спросила она, и видно было, что и не думает сердиться, а просто смеется надо мной.
Побагровев так, что, казалось, еще минута, и я вспыхну как спичка, я еле слышно прошептал: «Дедушка…»
Мадам Бродская расхохоталась, а вместе с ней и Рабинович, который до этого следил за сценой, не произнося ни слова.
– То, что не врешь, это хорошо, это по-моему. Никогда не ври, слово свое держи, не позорь ни себя, ни тех, кто в тебя верит. А насчет костюма не беспокойся – тебе Бог дал талант, вот ты и береги его, мороженое не ешь, а нам, простым смертным, уж позволь, пожалуйста, помочь тебе в меру возможностей. И потом, это же не просто ты, Соломон Хромченко, к итальянцу идешь. Ты всю нашу общину представляешь, за тобой – Златополь и Одесса, так что смотри не подведи. А к дедушке твоему я заеду: он человек умный, мы с ним договоримся.
Меня распирало от гордости: всемогущая вдова Бродского – это она-то «простой смертный»! – назвала моего деда умным человеком и была готова лично ехать к нему. И зачем? Чтобы поговорить. И о ком? Обо мне! Я настолько забылся, что осмелился обратиться с таким вопросом:
– А как вы думаете, может, попросить господина Менотти свозить меня в Италию? Если, конечно, – спохватился я, почувствовав, что меня слишком занесло, – все хорошо пройдет…
Но было поздно. Улыбка слетела с лица мадам Бродской, она нахмурилась и посмотрела на меня очень серьезно:
– Запомни одно правило, Соломон, которому лично я всегда следую и которое ни разу меня не подвело: никогда и ничего не проси, особенно у тех, кто сильнее тебя, – подожди, пока сами придут и предложат!
Она ничего не сказала о том, как вести себя с теми, кто слабее, но тут уж я сам додумался.
Помню, как много лет спустя, когда у нас издали наконец «Мастера и Маргариту», я буквально подскочил на стуле, прочитав такой же, слово в слово, совет. И вот ломаю с тех пор голову над вопросом, встречался ли когда-нибудь Михаил Булгаков с мадам Бродской или сам это придумал.
* * *Почему я так подробно описываю эту сцену, имевшую место более семидесяти лет назад? Не только потому, что она определила мою будущую жизнь, подарив первого и очень щедрого спонсора, а потому, что, став уже взрослым человеком и вспоминая ее, я понял, какой неоценимый урок такта преподала мне тогда мадам Бродская, сумевшая по-царски одарить меня, при этом не только не унизив, но и позволив почувствовать себя дарителем. Уважительно обращаться с тем, кто стоит на высшей социальной ступени, не большая наука, а вот относиться таким же образом, причем в обоих случаях без всякого панибратства, к тому, кто в силу каких-то причин менее обласкан судьбой, да еще если этот человек хоть в чем-то от вас зависит, – вот высшее проявление хорошего воспитания, чуткости, собственного достоинства, наконец. Ведь человек, по-настоящему уважающий самого себя, никогда не позволит себе оскорбить, унизить другого.
Кроме этого, с тех пор прочно засело мне в голову и в сердце осознание того, что я действительно не один, не сам по себе, что мои поступки имеют последствия для окружающих; что существует такое понятие, как репутация, при чем не только моя, но и моих близких, всех, кто оказывает мне доверие, кому я не безразличен. Наверное, именно в тот момент во мне зародилось чувство ответственности, которое, как мне без ложной скромности кажется, у меня довольно сильно развито.
Следующие несколько дней пролетели как в угаре. Уже назавтра, вернувшись домой из хедера (я еще застал эти еврейские школы, где мальчики могли учиться до тринадцати лет), я узнал от деда, что мадам Бродская таки заехала, всячески меня хвалила и подтвердила, что договорилась об аудиенции у Менотти через неделю – ведь нужно было успеть сшить костюм. Сообщив все это, дед предложил мне немедленно ехать к портнихе, что мы и сделали. Я не мог не заметить, что дед и смотрит на меня, и разговаривает со мной как-то по-другому, по-новому – если еще не с уважением, то уже с интересом, словно признавая, что мальчишка, удостоившийся внимания и даже протекции вдовы Бродского, не может быть обыкновенным сорванцом. Конечно, такое изменение в отношении деда ко мне льстило моему самолюбию, но я сдержался и решил не делиться ни с кем своими наблюдениями.



