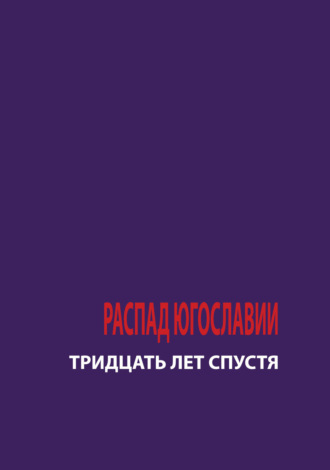
Полная версия
Распад Югославии. 30 лет спустя
А вот Нагорно-Карабахская республика (НКР), возникшая на территории бывшей азербайджанской автономии в ходе кровавого межэтнического конфликта 1992–1994 гг., так и не получила даже частичного международного признания, хотя типологически кейс Карабаха был очень близок к ситуации с Косово. На территории автономии преобладало армянское население (как в Косово (Косóве) – албанское), и оно подвергалось дискриминации со стороны правительства Азербайджана, как албанцы – со стороны властей Сербии. Так случилось потому, что потенциальные энфорсеры – Россия, США и Европейский союз – в силу разных причин были заинтересованы в сохранении партнерских отношений с Азербайджаном, которые, несомненно, оказались бы под угрозой разрыва в случае признания независимости НКР. Россия рассматривала Азербайджан в качестве важного торгово-экономического партнера, США и ЕС – в качестве поставщика и одновременно страны – транзитера углеводородных ресурсов из Центральной Азии в Европу, а также противовеса растущему влиянию Ирана в Каспийском регионе и на Южном Кавказе.
Распад Югославии продемонстрировал, что строительство национальных государств, стержнем которых являются «политические нации», за пределами традиционного западного мира либо сталкивается с колоссальными трудностями, либо и вовсе не представляется возможным без сильного внешнего давления. Эти явления были обусловлены не только конкретно-исторической спецификой Югославии (схожие процессы происходили и на пространстве бывшего СССР), но имели под собой причины более широкого, общемирового характера. «Дело заключается в том, что национальное государство, которое многие страны пытались построить или имитировать его строительство, в большинстве незападных обществ не является эффективным прежде всего из-за несформированности нации, а также из-за другой по сравнению с Западом культуры, истории, системы базовых ценностей, ментальности»[26]. Разница между Югославией и СССР состояла в том, что в первом случае все республики преследовали одну цель – создание национальной государственности, а во втором – крупнейшая страна, Россия, в силу ряда обстоятельств (многонационального характера, тесной связи русской национальной идентичности с имперской государственностью) оказалась вне этих процессов, скорее напоминая бывшую метрополию. В этом смысле можно говорить о том, что рассматриваемые процессы осуществлялись в более «чистом», «модельном» виде.
И в Югославии, и в Советском Союзе процессы их распада и создания новых независимых государств хронологически совпали с переходом к рыночной модели развития. В условиях, когда прежние социальные, политические институты, экономические отношения и официальная идеология прекратили действовать, этничность оставалась единственным фактором, консолидирующим общество и обеспечивающим легитимность новых властей. Главным же фактором, препятствовавшим формированию политических наций, являлось отсутствие зрелых гражданских обществ: «Поскольку ни в СФРЮ, ни в отдельных республиках… не сложилось развитое полиэтничное гражданское общество, передел собственности происходит по этническому признаку, когда этническая общность, а не личность является субъектом государственного, имущественного и прочих видов права. Здесь утверждалась модель не полиэтничного государства-нации, как в Западной Европе, а моноэтничного государства-национальности»[27]. Также следует отметить и такую особенность югославского кейса (также проявившуюся и при распаде Советского Союза), как большой исторический опыт насилия в истории этой страны и ее народов. В связи с тем, что в большинстве республик бывшей Югославии существовала этническая «чересполосица», ключевым фактором в создании национальных государств стала этническая собственность на землю, территорию, историческое и юридическое обоснование этой собственности. И одновременно такое понимание реалий на уровне массового сознания стало решающим фактором перерастания межэтнических конфликтов в длительное вооруженное противостояние.
Если рассматривать создание национальных государств на территории Югославии в контексте начавшегося в конце 80-х годов прошлого века перехода бывших стран мирового социализма к демократии, то и здесь «югославский опыт» обозначил новую характерную тенденцию. Страны, в которых этнополитика стала играть решающую роль в создании национальной государственности, в большей степени были склонны к авторитаризму (Сербия при С. Милошевиче, Хорватия при Ф. Туджмане, Македония при Н. Груевском). Напротив, там, где влияние этнополитики было меньшим, а гражданское общество более развитым (Словения), процесс перехода к демократии носил более последовательный и поступательный характер. Этнополитический фактор, понимаемый, прежде всего, как собственность конкретного этноса на территорию, представляется, таким образом, явлением, способным корректировать траекторию транзита бывших социалистических стран в сторону обществ, построенных на свободном рынке и плюралистической демократии.
Распад Югославии, как и других социалистических федераций – Советского Союза и Чехословакии, – вызвал новую волну споров о жизнеспособности государств такого типа[28]. При этом большинство исследователей, даже разделявших идею о перспективности и потенциале развития этнофедераций, тем не менее полагали, что социалистические федерации были обречены, прежде всего из-за отсутствия развитых гражданских обществ и слишком высокой централизации управления, вызывавшей у правящих элит и населения входивших в федерации республик стойкое стремление освободиться от власти федерального центра. Разница в процессах их распада состояла лишь в том, что в Чехословакии, где были сильны демократические традиции и отсутствовала «чересполосица» при расселении народов, распад состоялся мирным путем. В Советском Союзе и, особенно, в Югославии, где этих факторов не было, затяжные военные конфликты стали неотъемлемой чертой жизни новых независимых государств на протяжении всей последней декады ХХ столетия. Лишь немногие исследователи придерживаются мнения, что СФРЮ являлась вполне эффективным федеративным проектом, который погубило неправильное административное деление, границы, проведенные таким образом, что «различные республики федерации не совпали с этническими территориями»[29]. Такой взгляд представляется большим упрощением, не учитывающим значение других рассмотренных выше факторов, предопределивших распад Югославии и других социалистических федераций.
В целом же вопрос о жизнеспособности этнофедераций остается открытым и в нынешнее время. С одной стороны, существуют тенденции к федерализации стран с компактно проживающими на определенных территориях национальными меньшинствами (Испания). А с другой – в рамках федеративных государств и государств с сильными элементами федерализма продолжаются попытки сецессии отдельных территорий с целью создания национальных государств (Каталония в Испании, Квебек в Канаде, Шотландия в Соединенном Королевстве), процессы трансформации этнофедераций в более рыхлые образования конфедеративного типа (Бельгия). Однако отличительная особенность этих процессов, затрагивающих развитые страны Запада, состоит в том, что они происходят исключительно в рамках правовых и конституционных процедур с использованием референдумов. И в этом в какой-то мере можно увидеть реакцию, отрицание, по крайней мере частью мирового сообщества, негативного югославского опыта национального самоопределения на основе этнополитики.
Литература
Белинский А.В., Никуличев Ю.В. «Американские горки»: эволюция отношений между США и ФРГ в 1989–2019 гг. // Актуальные проблемы Европы / РАН, ИНИОН. – 2019. – № 4. – С. 135–157. DOI: 10.31249/ape/2019.04.08
Бисерко С. Гегемонистские националистические матрицы прошлого и будущее Балкан // Актуальные проблемы Европы / РАН, ИНИОН. – 2021. – № 2. – С. 84–100. DOI: 10.31249/ape/2021.02.04
Бляхер Л.Е Издержки глобального лидерства и «соседская» международная политика // Международная аналитика. – 2021. – Т. 12, № 1. – С. 21–34. – URL: https://doi.org/10.46272/2587-8476-2021-12-1-21-34
Калоева Е.Б. Власть и гражданское общество на Западных Балканах, их роль во внешней политике глазами балканских и зарубежных исследователей // Актуальные проблемы Европы / РАН, ИНИОН. – 2022. – № 2. – С. 68–86. DOI: 10.31249/ape/2022.02.04
Калоева Е.Б. Отечественные и зарубежные исследователи о настоящем и будущем Западных Балкан (Аналитический обзор) // Актуальные проблемы Европы / РАН, ИНИОН. – 2019. – № 2. – С. 235–265. DOI: 10.31249/ape/2019.03.11
Калхун К. Национализм / пер. с англ. А. Смирнова. – Москва: ИД «Территория будущего», 2006. – 288 с.
Пантин В.И. Государство и государственность в первой половине XXI века: переформатирование в контексте глобальных сдвигов. Гл. 4 // Государство в политической науке и социальной реальности XXI века / под ред. И.С. Семененко (отв. ред.), В.В. Лапкина, В.И. Пантина. – Москва: Весь мир, 2020. – С. 85–107.
Романенко С.А. Балканы. Юго-Восточная Европа: регион-загадка и регион загадок // Актуальные проблемы Европы / РАН, ИНИОН. – 2021. – № 2. – С. 22–58. DOI: 10.31249/ape/2021.02.02
Романенко С.А. Между «пролетарским интернационализмом» и «славянским братством». Российско-югославские отношения в контексте этнополитических конфликтов в Средней Европе (начало ХХ века – 1991 год). – Москва: НЛО, 2011. – 1024 с.
Романенко С.А. Распад Югославии: «заговор» или историческая неизбежность? // Полития. – 1998. – № 2 (8). – С. 159–178.
Фарукшин М.Х. Этнофедерализм: российский и зарубежный дискурс // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 10. – C. 40–51. DOI: 10.20542/0131-2227-2012-10-40-51
Шахназаров Г.Х. Цена свободы. Реформация Горбачева глазами его помощника. – Москва: Россика: Зевс, 1993. – 623 с.
Яковина Т. Хорватская политика: Символика и бездействие // Актуальные проблемы Европы / РАН, ИНИОН. – 2021. – № 2. – С. 101–126.
Глава 2
Взгляд этнолога: этнический фактор в процессе распада СФРЮ[30]
Характер межэтнических отношений в переходный период
Балканский регион в 90-е годы ХХ в. стал ареной жесткой радикализации этнонациональных проектов, заставивших весь мир по-новому взглянуть на проблемы национализма, сепаратизма, экстремизма, терроризма, обеспечения прав меньшинств. Этнический фактор в постсоциалистический период приобрел на Балканах исключительно важное значение. Он стал питательной средой для укрепления здесь националистических сил; именно этнический принцип стал фундаментом организации политической и общественной жизни. Роль этнической идентичности, как правило, возрастает в эпоху перемен и общественных кризисов, при возникновении угрозы нарушения установленных границ. Поэтому и на Балканах в последние десятилетия ХХ в. этническое самоопределение становится наиболее релевантным, этническая идентичность утрачивает прежнюю амбивалентность и приобретает четкие границы.
Сразу же оговоримся, что значительная часть проблем переходного времени имеет отнюдь не этнический характер, в их основе скорее лежат политические, социальные, экономические факторы. Многие аналитики, на мой взгляд, ошибочно объясняют войны, протекавшие в последнее десятилетие ХХ в. на постъюгославском пространстве, древней и непримиримой неприязнью между отдельными этническими группами. Но именно проблемы межреспубликанских и межэтнических отношений, осложнявшиеся на базе экономических трудностей и подогревавшиеся определенными кругами в своих политических целях, стали своего рода катализатором тех процессов, которые привели к распаду федеративной Югославии, смене экономического и политического строя[31].
В бурных событиях, сопровождавших распад СФРЮ, этнический фактор играл определяющую роль. Не сошел он со сцены и после прекращения военных действий в регионе, в условиях модернизационных изменений общества. Трансформация государственной системы, пересмотр политических границ, межэтнические конфликты явились катализатором целого ряда процессов этнического характера. Они имели конкретное проявление в различных социальных сферах (в области государственности, религии, языка и др.). Следует обратить внимание на такие проблемы, как роль этнической составляющей в конфликтах, изменение этнической структуры региона, миграции населения, возникновение новых меньшинств и на другие вопросы, имеющие этническую окраску.
Обстановка, сложившаяся в Югославии в 1990 г., характеризовалась многими признаками бессилия и парализованности федерального руководства, потерявшего контроль над ситуацией в стране, победой на первых многопартийных выборах в ряде республик партий и движений, находившихся в оппозиции к коммунистам. В этих условиях, а также вследствие непримиримости позиций участников межреспубликанского диалога о путях преодоления политического, экономического и конституционного кризиса, Хорватия и Словения, наиболее экономически развитые республики СФРЮ, взяли курс на максимальную самостоятельность, поскольку считали, что не могут более развиваться в рамках модели государственного социализма. По этому же пути вслед за ними пошли Босния и Герцеговина и Македония, пересмотревшие свои позиции (на более раннем этапе они считали, что Югославию надо перестроить в современную федерацию). Югославия в ее послевоенной форме (т. е. вторая, федеративная, Югославия) перестала существовать.
Акцент необходимо сделать также на том, что аналогичное положение сложилось и на уровне взаимоотношений республики Сербии и входивших в ее состав автономных краев. Особенно острый, нередко даже драматичный характер эти противоречия приобрели между Сербией и на то время ее автономным краем Косово. В последнее десятилетие существования СФРЮ конфликты имели открытую форму и являлись одним из факторов резкого обострения межэтнической обстановки в стране в целом.
Основой существования как советской, так и югославской федераций было наличие единой на всей территории партийно-административной системы контроля над общественной жизнью. Поэтому не удивительно, что с ее крушением, появлением плюрализма во взглядах и действиях, ослаблением центральной власти и введением демократических процедур данная основа была подорвана, в той или иной форме стала распространяться идея суверенизации. Вместе с тем национализм этнического характера в переходный период стал восприниматься в качестве наиболее реальной альтернативы коммунизму. Многие организации политического спектра строились по этническому принципу (несмотря на то, что Закон об объединениях граждан от 21 февраля 1990 г.[32] запрещал создание партий на этнической основе) и стояли на позициях этнического национализма. Партии, смешанные по этническому составу и выступавшие за межнациональное взаимодействие, чаще всего были приверженцами коммунистической идеологии и в этот период перестали пользоваться популярностью у населения, стремившегося к переменам.
Кардинальная перестройка политических, экономических и социальных отношений привела к мобилизации именно на этнической почве в силу господства этнонационального принципа государственного строительства. Учитывая то, что югославское государство имело федеративное устройство, основанное, подобно устройству СССР, на этническом принципе, дезинтеграционные процессы и неизбежный кризис переходного периода тесно переплелись с осложнениями межэтнических отношений. Этничность стала определяющим фактором раскола общества, межгрупповые противоречия окрасились в этнические тона, поскольку именно этничность в СФРЮ была положена в основу классификации населения и его групповых прав. Когда группы стали отстаивать свои интересы и права на территории, этническая принадлежность стала гипертрофированно значимой.
Глубочайшим противоречием переходного периода оказалось сочетание двух принципов: нерушимости границ, основополагающего базиса европейской безопасности, и доктрины о «праве наций на самоопределение», сформулированной Томасом Вудро Вильсоном и имевшей большой вес со времени окончания Первой мировой войны. Опасная ловушка заключалась в конституционно закрепленном праве наций на самоопределение вплоть до полного отделения. В прошлые годы любой намек на использование этого конституционного права рассматривался как антикоммунистическая деятельность; с ослаблением партийно-административного контроля создалась возможность для использования этого конституционного права. Но трагедия заключалась в том, что не были разработаны механизмы его реализации.
Под нациями в югославском варианте, так же как и в случае СССР, понимались этнические общности, а не граждане одного государства (в данном случае жители республики). Таким образом, одним из факторов дезинтеграционных процессов явилось стремление отдельных этносов (а не всех жителей республик или автономных краев) реализовать право на самоопределение и создать свое «национальное» государство. Вновь возникшие государства концепцию своего устройства в большей или меньшей степени строили также на этническом принципе, хотя при этом и признавали полиэтничную структуру общества, конституционно определяя свое государство в качестве гражданского.
Реализация права на самоопределение, подстегиваемая стремлением к созданию моноэтничных государств, тенденцией к размежеванию по этническому принципу, спровоцировали в целом ряде случаев территориальные претензии, проблемы национальных меньшинств и другие сложности. В ряде случаев было сложно найти нужный баланс между этническими территориями и политическими границами. В условиях политического и экономического кризиса межэтническая дистанция увеличивалась, число межэтнических конфликтов возрастало, в борьбе за обретение суверенитета во взаимоотношениях отдельных народов усиливалась напряженность. Этнический национализм стал если не господствующей, то наиболее мощной силой в посттоталитарном обществе. Противоборствующие политические верхушки, независимо от своей партийной окраски, превратили национальный вопрос в козырь в своей борьбе за власть, не считаясь с его взрывоопасным характером. И в результате события вышли из-под контроля, привели к братоубийственным войнам и конфликтам, нередко затяжного и острого характера, гражданским войнам.
Массовая политическая мобилизация по этническим и религиозным направлениям, драматическое углубление существующих социальных различий, обострение политических конфликтов, игнорирование существовавших правил политической игры с параллельной попыткой выработать новые правила, неготовность к политической толерантности и т. п. – все эти явления имели место во всех республиках бывшей Югославии. В частности, с самого начала вóйны в этой части Европы были политическими, а не религиозными, несмотря на то что в них были вовлечены как минимум три народа и три крупнейшие мировые религии. Война началась из-за конкретных и несовместимых между собой программ выхода из кризиса и политической реорганизации целого региона.
Войны на территории бывшей Югославии, имевшие характер межэтнических конфликтов, были спровоцированы политической стратегией, доминировавшей в Югославии с конца 1980-х годов, и являлись следствием того политического идеала, к которому стремилось югославское общество. Этот идеал базировался на известных политических формулах: «Одна нация – одно государство. Только одна страна для каждой нации» и «Каждая нация – одна страна и целая (вся) нация в одной стране».
Эта политическая стратегия являлась программой политической реконструкции югославской федерации. Она была инспирирована философией так называемой «ошибочности полиэтничного государства», которая ведет к утверждению, что мультикультурализм несостоятелен. Согласно этой стратегии, выход из югославского кризиса искали путем политической реконструкции, основываясь на идее раздела страны на несколько национальных государств. Моноэтничное государство стало идеальной целью. Все это вело к абсолютизации проблемы национального суверенитета, а также параллельно поднимало вопрос территорий и границ. Этническая окраска националистической политической стратегии вела к этнификации, абсолютизации национального суверенитета, стремлению к гомогенности национальных государств, этнической чистоте и отрицанию культурного и этнического смешения.
Эти установки не были результатом патологической нетерпимости к лицам другой национальности, религии и культуры, а стали следствием роста национализма, попытки создать гомогенные и монокультурные национальные государства. Национализм на Балканах был политическим, связанным с борьбой за власть. Одной из его основных целей являлась борьба за территории, право на землю. Как только новые государства были признаны мировым сообществом, встал вопрос о том, кто же имеет право жить на этой земле. Этнический и религиозный фундамент процесса самоопределения стал политической реальностью. Раскол шел по этническому принципу. Но изгнание людей с земель, исходя из их этнической принадлежности, не имело в своей основе этническую несовместимость, решающим фактором было, подчеркиваю еще раз, право на территорию.
Распад страны, с одной стороны, и действия националистически настроенных политиков, с другой, вылились в стремление определить национальный суверенитет над землями. Этнизация политики повернула социальные конфликты в русло специфических конфликтов коллективной идентичности. Развязывание войны усилило напряженность этнического конфликта. Процесс создания новых государств протекал болезненно и сложно, правовые и конституционные нормы решения подобных вопросов отсутствовали, на повестке дня встали всевозможные территориальные претензии, носившие характер межэтнических противоречий. Югославский кризис развивался с севера на юг, причем с нарастающей интенсивностью и вовлечением в него все большего числа участников, в том числе и внешних сил.
Моноэтничность и минимум проблем: словенский вариант обретения независимости
События в Словении, «десятидневная война» 1991 г., в свое время вызвали большую тревогу в Европе, но лишь потому, что эти события оказались «первым звонком». Жизнь показала, что данный конфликт было не так уж трудно урегулировать. На это повлиял и достаточно гомогенный этнический состав населения республики. Словенцы в 1991 г. составляли 87,84 % ее жителей[33]. Данный факт делал малозначительным этнический вопрос, остроты которого удалось избежать еще и потому, что сразу после провозглашения независимости Словенским парламентом был принят Закон о гражданстве (словен. Zakon o drћavljanstvu Republike Slovenije)[34], согласно которому несловенцы имели право на гражданство на основании разрешения постоянного проживания. Более 200 из них тогда воспользовались правом жить в Словении, имея двойное гражданство. Правда, в конце 1993 г. в закон были внесены поправки, согласно которым для получения гражданства требовалось прожить не менее десяти лет в стране, причем на постоянной основе[35]. Было отменено и двойное гражданство. В 1990-е годы многие выходцы из других постъюгославских республик были лишены словенского гражданства и лишены права проживания в этой стране, хотя позже был принят закон, восстанавливающий право на гражданство.
В целом Словения наиболее толерантно из всех бывших югославских республик подошла к решению этнических проблем. В этой стране в достаточно короткий срок была разработана одна из наиболее обстоятельных в Европе систем защиты прав национальных меньшинств. Общие положения о правах меньшинств были зафиксированы в специальных разделах конституции (словен. Ustava Republike Slovenije, 1991, ст. 64), а также в Законе об этнических группах[36]. Они гарантировали «особые права» этой части населения, закон, кроме того, определил статус и полномочия органов, представляющих их интересы. При этом словенское законодательство и статистика подразделили несловенское население на две группы. К первой были отнесены так называемые «автохтонные группы» – венгры и итальянцы, с некоторой оговоркой цыгане (ст. 65), ко второй – «эмигранты», главным образом выходцы из бывших югославских республик. Политика государства по отношению к этим двум категориям граждан несколько отличается. Последние не были наделены коллективными правами[37]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Романенко Сергей Александрович – д-р ист. наук, доцент, зав. сектором Восточной Европы Отдела Европы и Америки ИНИОН РАН; serg.hist@gmail.com.

