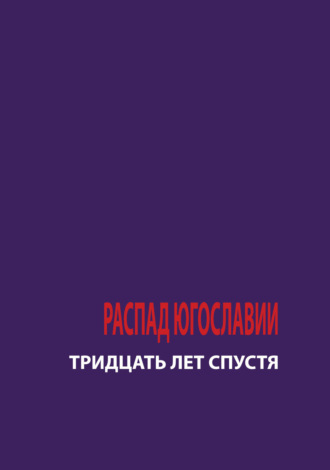
Полная версия
Распад Югославии. 30 лет спустя
В раздел IV – «События в СФРЮ и западный мир» – вошли главы А.В. Белинского (ИНИОН РАН) («Взгляд из Вены: “забытый” игрок. Политика Австрии на постъюгославском пространстве 1990–2022 гг.»), Ар. А. Улуняна («Взгляд из Амстердама: начало “горячей фазы” югославского кризиса по материалам нидерландской печати 1991 г.») и И.В. Крючкова («Взгляд из Брюсселя и Вашингтона: война в Боснии-Герцеговине 1992–1995 гг. в оценке средств массовой информации Западной Европы и США»).
Раздел V – «СССР и СФРЮ: судьба государств и людские судьбы» – посвящен взаимосвязи развития событий на политическом и человеческом уровнях в Советском Союзе и Югославии. Завершают монографию две главы, написанные журналистами, тесно связанными с ситуацией в Югославии и на постъюгославском пространстве. С.П. Грызунов («Взгляд журналиста: уроки войны для наших детей») работал в Белграде в 1991 г. и сотрудничал с одним из видных политических деятелей Сербии тех лет М. Паничем. Известный российский журналист, депутат ВС России, глава комиссии ВС по расследованию исчезновения журналистов Гостелерадио CCCР В. Ногина и Г. Куринного – В.В. Мукусев в качестве главы монографии предложил фрагменты своей книги, описывающей его самоотверженные и героические попытки выяснить судьбу его погибших в 1991 г. коллег, журналистов Гостелерадио СССР Виктора Ногина и Геннадия Куринного, «Взгляд верного друга: “Не стреляйте, мы ваши братья!”». Название главы дало название самой книги, вышедшей в 2018 г. В качестве приложения к этим главам публикуются материалы СМИ осени 1991 г. – интервью, данное С.П. Грызунову Председателем Президиума Скупщины Словении М. Кучаном[17], и обращение советских журналистов, призывающее найти их пропавших товарищей[18].
С глубокой скорбью приходится писать о том, что авторский коллектив монографии в самом начале работы понес две большие утраты: 30 июня 2020 г. скончался известный хорватский историк Иво Банац, а 12 декабря 2022 г. не стало выдающегося сербского историка и общественного деятеля Латинки Перович. Их исследования входят в золотой фонд хорватской и сербской историографии.
Литература
АСНОМ. Педесет години македонска држава 1944–1994: Зборник од симпозиум. – Скопје, 1995. – 571 с.
Бьюкенен А. Сецессия. Право на отделение, права человека и территориальная целостность государства. – Москва: Рудомино, 2001. – 239 с.
Вагапова Н.М. Международные театральные фестивали в Белграде. БИТЕФ 1967–2007. – Москва: ГИТИС, 2011. – 214 с.
Вагапова Н.М. Политический театр на сценах Белградского театрального интернационального фестиваля // Актуальные проблемы Европы / РАН, ИНИОН. – 2021. – № 2. – С. 154–175. DOI: 10.31249/ape/2021.02.07
Зечевић М. Југославија 1918–1992: јужнословенски државни сан и јава. – Београд: Просвета, 1994. – 302 с.
История антикоммунистических революций конца ХХ в. Центральная и Юго-Восточная Европа. – Москва: Наука, 2007. – 397 с.
История Югославии. – Москва: Изд-во АН СССР, 1963. – Т. 1. – 736 с.; т. 2. – 430 с.
Кашуба М.С., Мартынова М.Ю. Новая этнополитическая карта Балкан. – Москва: ИЭА РАН, 1995. – 164 с.
Кирилина Л.А., Пилько Н.С., Чуркина И.В. История Словении. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2011. – 480 с.
Косово: международные аспекты кризиса / под ред. Д.В. Тренина, Е.А. Степановой. – Москва: Московский Центр Карнеги, 1999. – 309 с.
Косово: прошлое, настоящее, будущее / отв. ред. Романенеко С.А., Шмелев Б.А. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2012. – 243 с.
Мартынова М.Ю. Балканский кризис: народы и политика. – Москва: Старый сад, 1998. – 465 с.
Никифоров К.В. Самопровозглашенные государства на территории бывшей Югославии // Международный форум «Европа: итоги года перемен». – Москва, 2005. – С. 3–22.
Никифоров К.В. Постсоциалистический мир Европы четверть века спустя // Славянский альманах. – Москва, 2018. – № 1–2. – С. 367–378.
Никифоров К.В. Сербия на Балканах. ХХ век. – Москва: Индрик, 2012. – 176 с.
Очерки политической истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Конец XX – начало XXI в. / отв. ред. К.В. Никифоров. – Москва; Санкт-Петербург: Нестор-История, 2020. – 464 с. DOI: 10.31168/2712-8342.2020.1
Пархалина Т.Г., Романенко С.А. Международные отношения в Восточной Европе: проблемы, методы, контуры исследования и перспективы развития // Актуальные проблемы Европы / РАН, ИНИОН. – Москва, 2022. – № 2. – С. 7–22. DOI: 10.31249/ape/2022.02.01
Революции и реформы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: 20 лет спустя. – Москва: РОССПЭН, 2011. – 775 с.
Романенко С.А. Балканы – Юго-Восточная Европа: регион-загадка и регион загадок // Актуальные проблемы Европы / РАН, ИНИОН. – Москва, 2021. – № 2. – С. 22–58. DOI: 10.31249/ape/2021.02.02
Романенко С.А. Доктринальные документы внешней политики государств постъюгославского пространства 2014–2021 гг. // Актуальные проблемы Европы / РАН, ИНИОН. – Москва, 2022. – № 2. – С. 50–87. DOI: 10.31249/ ape/2022.02.03
Романенко С.А. История и этнонационализм в постсоциалистическом мире: югославский вариант (1980–1990-е гг.) // Национализм в мировой истории / отв. ред. В.А. Тишков, В.А. Шнирельман. – Москва: Наука, 2007. – С. 408–451.
Романенко С.А. Между «пролетарским интернационализмом» и «славянским братством». Российско-югославские отношения в контексте этнополитических конфликтов в Средней Европе (начало ХХ века – 1991 год). – Москва: НЛО, 2011. – 1024 с.
Романенко С.А. Политические системы и политические процессы в странах Восточной Европы: этапы, методы изучения и результаты (2014–2022) // Актуальные проблемы Европы / РАН, ИНИОН. – Москва, 2023. – № 2. – С. 7–30. DOI: 10.31249/ape/2023.02.01
Романенко С.А. Постъюгославское пространство 1992–2014 гг.: проблемы национального самоопределения и непризнанных государств // Актуальные проблемы Европы / РАН, ИНИОН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 154–171.
Романенко С.А. CCCР и распад Югославии: идеологический и международный аспекты // Окончание холодной войны в восприятии современников и историков. 1985–1991 / отв. ред. О.В. Павленко, В.И. Журавлева. – Москва: РГГУ, 2021. – С. 174–195.
Романенко С.А. Югославия, Россия и «славянская идея». Вторая половина ХIХ – начало ХХI века. – Москва: Изд-во Ин-та права и публичной политики, 2002. – 624 с.
Романенко С.А. Югославский Рубикон // Новое литературное обозрение. – 2007. – № 83 (1). – С. 138–164.
Трансформационные революции в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. К 30-летию событий. 1989–2019 / отв. ред. К.В. Никифоров. – Москва: Ин-т славяноведения РАН; Санкт-Петербург: Нестор-История, 2021. – 400 с.
Улунян Ар. А., Кулешов С.Г. Фактор Косово: балканское экспертно-аналитическое сообщество на фоне этнополитического кризиса (1996–2007 гг.). – Москва: ИВИ РАН, 2007. – 208 с.
Фрейдзон В.И. История Хорватии. Краткий очерк с древнейших времен до образования республики (1991 г.). – Санкт-Петербург: Алетейя, 2001. – 318 с.
Хобсбаум Э. Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век. 1914–1991. – Москва: Изд-во Независимая газета, 2004. – 632 с.
Центральная и Юго-Восточная Европа. Конец ХХ – начало ХХI в. Аспекты общественно-политического развития. Историко-политологический справочник. – Москва; Санкт-Петербург: Нестор-История, 2015. – 480 с.
Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века: в 3 т. Т. 2. От стабилизации к кризису. – Москва: Наука, 2002. – 516 с.
Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века: в 3 т. Т. 3. Трансформации 90-х годов. – Москва: Наука, 2002. – Ч. 1. – 461 с.; ч. 2. – 464 с.
Центральноевропейские страны на рубеже ХХ – ХХI веков. Аспекты общественно-политического развития. Историко-политический справочник. – Москва: Новый хронограф, 2003. – 256 с.
Энтина Е.Г. Незападные Балканы. – Москва: Зебра-Е, 2022. – 656 с.
Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен / под ред. А.А. Язьковой. – Москва: Весь мир, 2007. – 352 с.
Югославия в ХХ веке: очерки политической истории / отв. ред. К.В. Никифоров. – Москва: Индрик, 2011. – 888 с.
Югославский кризис и Россия: документы, факты, комментарии (1990–1993) / отв. ред. Е.Ю. Гуськова. – Москва: Славянская летопись, 1993. – 505 с.
Allcock J.B. Explaining Yugoslavia. – London: Hurst & Company, 2000. – 499 p.
Altermatt U. Das Fanal von Sarajevo: Ethnonationalismus in Europa. – Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung, 1996. – 288 S.
Benedejčič A. Rusija in slovanstvo: med velikodržavnostjo in vzajemnostjo. – Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021. – 551 str.
Bennett Ch. Bosnia’s paralysed peace. – London: Hurst & Company, 2016. – 388 p.
Bilandћić D. Hrvatska moderna povijest. – Zagreb: Golden Marketing, 1999. – 836 str.
Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata / Imamović E. [et al.]. – Sarajevo: Bosanski kulturni cdentar Prosvdeta, 1998. – 434 str.
Crampton R.J. The Balkans since the Second World War. – London: Routledge, 2002. – 408 p.
Dějiny Jihoslovanských Zemí / Šestak M., Tejhman M., Havlikovб L., Hladkэ L., Pelikбn J. – Praha: Nakladelstvi Lidovй noviny, 1998. – 757 str.
Filandra Љ. Bošnjačka politika u XX stoljeću. – Sarajevo: Sejtarija, 1998. – 417 str.
Friedman F. Bosnian Muslims. Denial of a nation. – London: Routledge, 1996. – 304 p.
Gagnon V.P. The myth of ethnic war: Serbia and Croatia in the 1990s. – Ithaca; London: Cornell University Press, 2004. – 240 p.
Garde P. Vie et la mort de la Yougoslavie. – Paris: Fayard, 1992. – 480 p.
Glenny M. The Balkans: nationalism, war and Great Powers. 1804–1999. – London: Granta Books, 1999. – 752 p.
Glenny M. The fall of Yugoslavia: the Third Balkan war. – New York: Penguin, 1992. – 193 p.
Goldstein I. Hrvatska. 1918–2008. – Zagreb: Liber, 2008. – 930 str.
Goldstein I. Hrvatska. 1990–2020. Godine velikih nada i gorkih razočaranja. – Zagreb: Profil, 2021. – 554 str.
Hayden R.M. Blueprints for a house divided. The constitutional logic of the Yugoslav conflicts. – Ann Arbor: University of Michgan Press, 2000. – 224 p.
Iaz’kova A.A. The emergence of post-cold war Russian foreign policy priorities // The Yugoslav conflict and its implications for international relations / ed. by S. Bianchini, R.C. Nation. – Ravenna: Longo Editore, 1998. – P. 109–116.
Imamović M. Historija Bošnjaka. – Sarajevo: Bošnjačka zajednica kulture preporod, 1998. – 635 str.
International perspectives on the Yugoslav conflict / A. Danchev, Th. Halverdon (eds.). – New York: St. Martin's Press, INC., 1996. – 212 p.
Jović D. Jugoslavija – država koja je odumrla: uspon, kriza i pad Kardeljeve Jugoslavije (1974–1990). – Zagreb; Beograd: Prometej, 2003. – 522 str.
Judah T. The Serbs: history, myth and the destruction of Yugoslavia. – 2 ed. – Yale: Yale University Press, 2000. – 398 p.
Jugoslavija: poglavlje 1980–1991. – Beograd: 2021. – 960 str.
Jugoslavija u istorijskoj perspektivi. – Beograd: 2017. – 544 str.
Jugoslavija u historiografskim ogledalima: Zbornik radova. – Sarajevo: UMHIS, 2018. – 202 str.
Longworth Ph. The making of Eastern Europe: from prehistory to postcommunism. – 2 ed. – New York: St. Martin's Press, 1997. – 352 p.
Matković H. Povijest Jugoslavije (1918–1991–2003). – 2 dopunjeno izd. – Zagreb: PIP, 2003. – 439 str.
Matvejević P. Jugoslavenstvo danas. – Beograd: 1984 – 287 str.
Mazower M. Dark continent. Europe’s twentieth century. – New York: Penguin, 1998. – 512 p.
Mazower M. The Balkans: a short history. – London: Phoenix Press, 2001. – 160 p.
Malcolm N. Bosnia: a short history. – London: Papermac, 1994. – 340 p.
Malcolm N. Kosovo: a short history. – London: Macmillan, 1998. – 491 p.
Neighbors at war. Anthropological perspectives on Yugoslav ethnicity, culture and history / ed. by J.M. Halpern, D.A. Kideckel. – University Park: Penn State University Press, 2000. – 391 p.
Pirjevec J. Jugoslavija: nastanek, razvoj ter razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije. – Koper: Založba Lipa, 1995. – 461 str.
Pond E. Endgame in the Balkans: regime change, European style. – Washington (DC): Brookings Institution Press, 2006. – 412 p.
Radelić Z. Hrvatska u Jugoslaviji (1945–1991.): od zajedništva do razlaza. – Zagreb: Školska knjiga: Hrvatski Institut za povijest, 2006. – 700 str.
Ramet S.P. Nationalism and federalism in Yugoslavia. 1962–1991. – 2 ed. – Bloomington: Indiana University press, 1992. – 346 p.
Repe B. Milan Kučan, prvi predsjednik Slovenije. – Sarajavo: UMHIS, 2019. – 438 str.
Reprezentacije socijalističke Jugoslavije: preispitivanja i perspective. – Sarajevo; Zagreb: UMHIS: Srednja Evropa, 2019. – 209 str.
Schopяin G. Nations, identity, power: the new politics of Europe. – London: Hurst & Company, 2000. – 442 p.
Silber L., Little A. The death of Yugoslavia. – London; New York: Penguin: BBC Books: Penguin USA, 1996. – 400 p.
Tanner M. Croatia: a nation forged in war. – 2 ed. – Yale: Yale University Press, 2001. – 384 p.
Thomas R. Serbia under Milošević. Politics in the 1990s. – London: Hurst & Company, 1999. – 443 p.
Thompson M. Forging war: the media in Serbia, Croatia, Bosnia and Hercegovina. – Luton: University of Luton Press, 1999. – 388 p.
Vagapova N.M. Bitef: Pozorište, festival, život. – Beograd, 2010. – 720 str.
Раздел I
Что такое распад СФРЮ
Глава 1
Взгляд политолога: распад Югославии и новые явления в мировой политике[19]
Распад СФРЮ не только привел к значительным изменениям на политической карте Юго-Восточной Европы, но и вызвал к жизни процессы на Западных Балканах, последствия которых ощущаются и поныне. Дезинтеграция этой крупной европейской страны способствовала возникновению и новых явлений в мировой политике. Анализу некоторых из них и посвящена данная статья.
Распад Югославии стал одним из ярчайших проявлений крушения Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений и созданного ею биполярного миропорядка, в основе которого находилось соперничество двух сверхдержав – США и Советского Союза, возглавлявших две конкурировавшие друг с другом общественные системы – капиталистическую и социалистическую. После переломного для судеб значительной части человечества 1989 года, ознаменовавшегося официальным завершением холодной войны, отказом Советского Союза от присутствия во многих регионах мира и крахом социализма в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)[20], биполярность как основа миропорядка начала стремительно ослабевать. СССР вплоть до своего распада в 1991 г. все еще продолжал оставаться одним из центров силы в мире со своими интересами и ви́дением международной ситуации, однако уже не играл и не хотел играть роль противника США. Общественно-политический и экономический порядок в оставшихся после краха социализма в двух социалистических странах Европы – СССР и СФРЮ – в этих условиях эволюционировал в направлении иных общественных моделей, основанных на рыночной экономике и политическом плюрализме.
При этом правила и политико-юридические нормы, на базе которых существовал биполярный миропорядок, продолжали действовать, ими по-прежнему в практической деятельности руководствовались правительства разных стран. Эти правила складывались постепенно на протяжении десятилетий и в конечном итоге были закреплены в важнейших международных документах только в 1960– 1970-е годы. С формальной точки зрения, по крайней мере на первый взгляд, они выглядели противоречивыми. Так, с одной стороны, мировое сообщество признало неотъемлемое право народов на самоопределение, которое было закреплено в Уставе ООН (ст. 1, п. 2), принятом в 1945 г. В принятой 14 декабря 1960 г. Генеральной Ассамблеей ООН «Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам» не только отмечалось, что «все народы имеют право на самоопределение; в силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие», но и подчеркивалось, что «недостаточная политическая, экономическая и социальная подготовленность… никогда не должны использоваться как предлог для задержки достижения независимости»[21]. Но, с другой стороны, в другом важнейшем международном документе – Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанном главами государств и правительств 33 европейских стран, а также США и Канады, устанавливался принцип нерушимости границ, сложившихся по итогам Второй мировой войны. Государства-подписанты брали на себя обязательства уважать территориальную целостность друг друга, воздерживаться от любых направленных против нее действий, от применения силы или угрозы ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства[22]. Для мирового порядка значимость правил, установленных Заключительным актом, определялась тем, что они относились к регулированию международных отношений в Европе, на континенте, где противостояние между двумя сверхдержавами и конкурирующими общественными системами приобрело наиболее острый и напряженный в военно-политическом плане характер.
Однако противоречие между приведенными выше подходами было только кажущимся. На самом деле они относились к регулированию совершенно разных процессов и в разных регионах мира. Право народов на самоопределение было адресовано народам стран, освободившихся и освобождавшихся от колониальной зависимости. И в этом плане позиции обеих сверхдержав, заинтересованных в ликвидации прежних колониальных империй европейских государств, были очень близки. Наглядным примером этого являлись позиции, занятые правительствами Советского Союза и США в отношении англо-франко-израильской агрессии против Египта в 1956 г. Во многом благодаря совместным усилиям сверхдержав эта война была прекращена. Но в дальнейшем именно борьба за влияние в странах третьего мира стала главным геополитическим полем соперничества между СССР и США в годы холодной войны.
В Европе же, где риск возникновения новой мировой войны, способной уничтожить все человечество, был очень велик, сверхдержавы твердо придерживались иного принципа – сохранения status quo, возникшего по итогам Второй мировой войны. Так, США и их союзники по НАТО не оказали никакой помощи антикоммунистическим силам в Венгрии и Чехословакии соответственно в ходе венгерского антисталинистского восстания 1956 г. и Пражской весны 1968 г. В свою очередь Советский Союз в 1974–1975 гг. не оказал помощь группировке прокоммунистически настроенных португальских военных, овладевшей в тот период основными рычагами власти в стране и намеревавшейся осуществить социалистическую революцию, вывести Португалию из НАТО и присоединиться к Организации Варшавского договора.
Таким образом, двойственность подходов, предполагавшая право самоопределения для народов третьего мира и нерушимость границ и территориальную целостность в отношениях между первым и вторым миром, была имманентно присуща Ялтинско-Потсдамской системе и возникшему на ее основе биполярному миропорядку.
Распад Югославии, воспринимавшийся на Западе и в Советском Союзе, а затем и в России, именно в этой системе координат, поставил мировое сообщество перед совершенно новыми задачами и оказал огромное влияние на мировую политику последующих десятилетий.
Югославия занимала особое место в Ялтинско-Потсдамской системе международных отношений. Страна не входила ни в Совет экономической взаимопомощи, ни в Варшавский договор, проводила независимую от СССР внутреннюю и внешнюю политику и потому рассматривалась Соединенными Штатами как противовес влиянию Советского Союза. В то же время, несмотря на тесные экономические связи с Западом, СФРЮ не отказывалась от социалистического строя и монопольной власти коммунистической партии. В СССР в рамках господствовавших тогда идеологических воззрений СФРЮ наряду с КНР, КНДР и Албанией считали частью мировой социалистической системы, но не включали в состав мирового социалистического содружества, куда входили только находившиеся в орбите советского влияния страны СЭВ, Варшавского договора, а также Куба и Вьетнам. Югославия являлась одной из стран-основательниц Движения неприсоединения, объединявшего в основном развивающиеся и освободившиеся от колониальной зависимости страны, которое также являлось полем борьбы между сверхдержавами за мировое доминирование.
Однако, несмотря на все эти особенности, процесс ее распада отразил противоречия и проблемы новой эпохи. Югославия как европейское государство являлась членом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), с деятельностью которого непосредственно связано принятие Заключительного акта.
Поэтому ей должно было быть гарантировано сохранение территориальной целостности.
Но в то же время в 1991–1992 гг. страна быстро фрагментировалась под влиянием стремления составлявших ее республик стать независимыми государствами. Трудно было найти решение возникшей проблемы в рамках сложившихся правил и норм. Это признавали в правительственных кругах ведущих стран мира, в том числе и Советского Союза. В декабре 1990 г. Г.Х. Шахназаров, один из ближайших соратников президента СССР М.С. Горбачева, в специальной записке «К вопросу о Югославии» на имя руководителя Советского Союза писал: «В откликах и комментариях [имеется в виду обсуждение югославской темы в СБСЕ. – Прим. А. Р.] просматривается общий вывод: в Югославии проявилось одно из глубоких противоречий современной эпохи – между государственным суверенитетом и правом народов на самоопределение. Оба принципа нашли всеобщее признание и закреплены в международном праве… Перед нами сейчас традиционная для международных отношений политическая задача: как совместить два справедливых интереса, не допустив при этом ущерба окружающим. Задача высшей политической сложности, и если ее не удастся решить, последствия могут быть катастрофическими»[23]. Определенную растерянность в отношении того, как относиться к начавшемуся распаду Югославии, испытывали и США, которые сначала поддерживали сохранение территориальной целостности СФРЮ и лишь в апреле 1992 г. признали независимость новых государств – Словении, Боснии и Герцеговины и Хорватии.
Совместить «справедливые» интересы не удалось. Мировое сообщество пошло по пути признания новой реальности, зафиксировавшей распад СФРЮ в 1991–1992 гг. и создание на месте бывших социалистических республик, входивших в нее, нескольких независимых национальных государств, а также новой федерации в составе Сербии и Черногории (Союзной Республики Югославии), которая в 2003 г. трансформировалась в конфедеративное государство Государственный союз Сербии и Черногории, которое, в свою очередь, в 2006 г. прекратило свое существование, распавшись на два суверенных независимых государства. Такая позиция в целом соответствовала содержащемуся в международном праве принципу uti possidetis, согласно которому новые государства, получившие независимость, имеют ту же территорию и с теми же границами, которые имели прежде, будучи административно-политическими единицами в составе других государств или колониальных владений.
Отчасти политика признания новых независимых государств основывалась и на отсылке к Вводному разделу, Принципу 1 конституции СФРЮ 1974 г., в которой в самом общем плане провозглашалось право народов на выход из федерации[24]. Однако когда процессы дезинтеграции, во многом из-за политики тогдашнего руководства Сербии, затронули территорию недавно провозглашенных независимых государств (Боснии и Герцеговины, Хорватии, Автономного края Косово в составе Сербии), вопрос о том, как к этому относиться, с новой силой встал перед мировым сообществом. Но к тому времени Советский Союз перестал существовать, и биполярный миропорядок ушел в историю. Поэтому вопрос решался уже на совершенно иных основаниях. США и Евросоюз построили политику, исходя из признания Сербии главной виновницей нового витка войн на территории бывшей СФРЮ. Следуя этой логике, они поддержали территориальную целостность Хорватии и Боснии и Герцеговины, однако заняли совершенно иную позицию в отношении Косово, поддержав его независимость после военной операции НАТО против СРЮ в марте 1999 г. и ухода сербских сил безопасности с этой территории. Россия же заняла более взвешенную позицию, стремясь добиться компромисса по проблеме Косово и оказывая моральную поддержку сербскому меньшинству в Хорватии и боснийским сербам, создавшим Республику Сербскую. Однако постсоветская Россия уже не являлась полюсом в мировой системе и не имела военных, политических и экономических ресурсов для проведения активной политики на территории бывшей Югославии. В результате в мировую политику в ситуациях, когда принцип территориальной целостности входил в противоречие с правом на самоопределение, был внедрен новый подход, в соответствии с которым это противоречие разрешалось так, как это считали целесообразным международные акторы – энфорсеры (enforcers), обладавшие возможностью навязать в регионе свой порядок и заставить расположенные там государства соблюдать его[25]. В истории с Косово роль такого энфорсера сыграли США и их союзники по НАТО. Ссылки правительств западных стран на то, что сецессия Косово (Косóвы)является уникальным случаем (unique case), не смогли в дальнейшем локализовать применение этого подхода в мировой политике. Так, Россия в 2008 г. после так называемой «пятидневной войны» с Грузией признала независимость бывших грузинских автономий, к тому моменту уже давно вышедших из-под контроля правительства в Тбилиси – Абхазии и Южной Осетии, хотя их кейсы типологически сильно отличались от случая Косово. Тем не менее это решение в значительной мере обосновывалось отсылкой к признанию многими государствами, и в первую очередь США и их союзниками, независимости бывшего Автономного края Сербии. Изменение status quo в данном случае стало возможным потому, что в тот период Россия играла роль энфорсера, который изменил существующие границы, исходя из собственных интересов и представлений о справедливом порядке.

