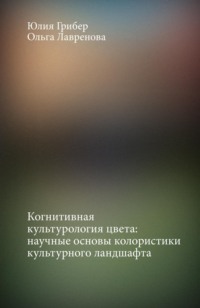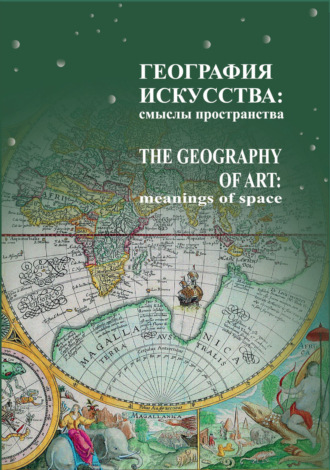
Полная версия
География искусства. Смыслы пространства

География искусства: смыслы пространства
© ИНИОН РАН, 2024
О.А. Лавренова
Введение
Смыслы пространства[1]
Аннотация. Многолетний междисциплинарный проект «География искусства» включает в себя выпуск сборников и ежегодные конференции. Этот сборник создан по результатам работы IX Международной конференции, посвященной изучению проблем взаимодействия искусства и пространства. В сборнике традиционно рассматриваются проблематика локальных текстов, художественных образов пространства, дрейфа стилей по земной поверхности и т. п. Этот проект отличает комплексный и многоаспектный подход к рассматриваемой проблематике.
Ключевые слова: география искусства; пространство; искусство; культурный ландшафт.
Данный сборник создан на основе материалов IX Международной научной конференции «География искусства» и дискуссии, уже давно существующей в этом междисциплинарном поле, в которую вовлечены авторы многих областей науки.
Проект «География искусства» был инициирован Ю.А. Ведениным, автором книги «Очерки по географии искусства» [Веденин, 1997]. Первый сборник «Географии искусства» вышел под его редакцией в 1994 г. [География…, 1994]. С тех пор было выпущено десять сборников и состоялось шесть конференций [География…, 1998; География…, 2002; География…, 2005; География…, 2009; География…, 2011; География…, 2016; География…, 2018; География…, 2019; География…, 2020; География…, 2021; География…, 2022; География…, 2023].
IX Международная научная конференция «География искусства» состоялась 25–27 мая 2023 г. Очно конференция проходила на двух площадках – в Российской Академии художеств и в ИНИОН РАН. Организаторами выступили РАХ, ИНИОН, РГГУ, Институт телевидения (ГИТР). К конференции вышел новый сборник «География искусства» [География…, 2023], который продолжает серию из уже вышедших одиннадцати книг.
В ходе конференции обсуждалось несколько традиционных тем, а также новые аспекты понимания проблематики взаимодействия культуры и искусства с территорией. Одна из секций была традиционно посвящена визуальным образам пространства, фото-, кино- и медиаосмыслению ландшафта, обзор этой секции опубликован в журнале «Наука телевидения» [Лавренова, 2023].
Одно из фундаментальных направлений дискуссии – Семиотика ландшафта.
Это направление представлено статьей О.А. Лавреновой «Колористическая семантика ландшафта», где исследуется проблематика цвета как знака, его включеннности в семиотические процессы культуры.
С семиотикой связаны и образы пространства, в том числе ландшафтные миры идеологии, конструируемые с помощью памятников, топонимов, музеев.
Статья В.А. Спиридоновой «Образ В.И. Ленина как неотъемлемая часть географического образа СССР» репрезентирует концепт советского пространства как систему идей и стереотипов, как особый тип культурного пространства. Одну из ведущих ролей в процессе становления имиджа новой страны играл образ ее вождя В.И. Ленина. Сегодня, когда на территориях многих стран бывшего СССР проводится политика уничтожения «советского пространства» (снос памятников, переименование улиц, городов и т. д.), изучение «ленинского пространства», как его неотъемлемой и наиболее определяющей части, приобретает особую актуальность. В рамках современной России, менее подверженной таким тенденциям, «ленинское пространство» еще продолжает определять облик многих городов.
Мифологические пространства создавались с архаических времен и по сей день.
Статья Т.С. Терещенко «Амазонки в контексте изображений Других в греческой вазописи сер. VI – перв. четв. IV в. до н. э.» показывает, как в мифах о женщинах-воинах нашли отражение представления древних греков о реальных народах Малой Азии и Северного Причерноморья. Амазонки часто изображались с деталями одежды и вооружения скифов, персов, фракийцев – сцены битв с женщинами-воинами были мифологической интерпретацией внешних контактов древних греков. С начала V в. до н. э. так своеобразно репрезентировались греко-персидские войны и дальнейшие противостояния. Более поздние изображения амазонок были связаны с погребальными практиками.
Исследование И.К. Фоменко и Е.И. Щербаковой «Арктическая Аркадия на картах: от эпохи короля Артура до русских ясновидящих XIX столетия» – это попытка описать счастливую полярную страну на основе географических карт от начала XVI до середины XIX в. Если средневековые карты базируются на сведениях литературных источников, то в основе русских карт XIX в. лежит информация, полученная от северных промысловиков, научных экспедиций и даже ясновидящих. Примечательно, что местоположение этого райского уголка на картах совпадает с теми районами Арктики, которые обладают огромными запасами полезных ископаемых.
Традиционный для географии искусства аспект – Локальные тексты и литературная география.
В статье О.Б. Балашовой «Координаты любви и смерти в пространстве петербургских мотивов Анны Ахматовой» впервые был сделан обзор и анализ книжных иллюстраций в междисциплинарном аспекте. На примере ахматовского цикла иллюстраций Юрия Воронова, выполненных в технике гратографии, было показано соответствие между тем, какие именно художественные образы пространства Ахматовой имеют место и какими изобразительными средствами художник-иллюстратор интерпретирует поэзию, используя пространство в качестве семантически значимого фона.
Е.М. Бутенина представила исследование «Владивосток в русской поэзии ХХ века». Владивосток, согласно терминологии классической работы Ю.М. Лотмана, можно назвать эксцентрическим городом: как и Санкт-Петербург, он расположен «на краю» культурного пространства. Мощный образ моря появляется в первом же известном поэтическом посвящении Владивостоку, которое принадлежит Константину Бальмонту, посетившему город в апреле 1916 г. Велимир Хлебников посвятил городу поэму «Переворот во Владивостоке» и таинственные строки в поэме «Синие оковы». Немало ностальгических и лирических строк о городе создали представители известной владивостокской династии Матвеевых: В.Н. Матвеев (Март), его сын И.В. Матвеев (Елагин) и брат Н.Н. Матвеев. Дочь Н.Н. Матвеева, Новелла, стала знаменитым поэтом и бардом. В ее творческом наследии есть и «Поэма о Владивостоке» (1960), повествующая об истории города с самых истоков.
Художественные образы пространства (локальные и региональные) – традиционная тема, источник дискуссии на конференции, объединяющая разные формы визуального искусства, связанные с территорией.
«Развитие образа Санкт-Петербурга в живописи художников второй половины XX – начала XXI в.» – исследование Е.Д. Репиной. Во второй половине ХХ – начале XXI в. Большое число художников обращаются к петербургскому городскому пейзажу, который становится полигоном для творческих экспериментов. Произведения этого жанра, с одной стороны, демонстрируют связь современного пейзажа с петербургской пейзажной школой и творчеством художников «Мира искусства» рубежа XIX–XX вв., а с другой – показывают меняющееся отношение к современной городской действительности. Образ Санкт-Петербурга как недружественного и мистического, практически сакрального пространства с бесконечным количеством переменных, сюрреалистической фактурой, где смешивается вымысел и действительность, но идеальной конструкцией, можно назвать одним из самых важных для современной пейзажной школы.
Ю.М. Валиева представила к публикации не опубликованные ранее дневниковые записи Вс. В. Воинова (из собрания РО ГРМ) о Юкки, пригороде Ленинграда «русской Швейцарии», где художник снимал дачу в середине 1920-х годов.
Е.В. Коляченко сделала исследование «География Урала как ориентиры творческих траекторий двух художников: Леонида
Тишкова и Анастасии Богомоловой», где показала, как художники разных поколений конструируют пространство своих проектов в соответствии с территорией, где они формировались. Также в тексте очерчен контекст современного искусства Урала, тенденция проговаривания важности локальной географии, которой в разной мере соответствуют вышеназванные художники.
«Опыт художественного осмысления пространства Югры» – текст Н.В. Сухоруковой, где автор нас знакомит с обзором творческих результатов региональных, всероссийских и международных художественных пленэров, состоявшихся за последние двадцать лет на территории Югры. Эти пленэры стали частью культурного освоения территории от Ханты-Мансийска до Приполярного Урала. Ритмически организованный диалог воды и неба, по-разному проявившийся в пленэрных работах, стал творческим диалогом с художником – гением места, соединившем угорскую и русскую старожильческую ветви своей родословной – Геннадием Степановичем Райшевым (1934–2020).
Тема исследования О.Г. Шауро – «Художник в экспедиции: образы Арктики и Антарктики в произведениях И.П. Рубана». Игорь Павлович Рубан (1912–1996) – художник, который посвятил Арктике и Антарктике 50 лет творческой жизни, участвовал в морских и воздушных арктических экспедициях, посетил острова Баренцева и Берингова морей. Когда советские полярники начали исследовать Антарктику, Рубан отправился вместе с ними во Вторую континентальную антарктическую экспедицию. Он единственный профессиональный художник, получивший звание «Почетный полярник» в 1955 г. Рубан оставил огромное художественное наследие, его работы становятся важным историческим документом: зафиксировав детали, серьезные или забавные моменты, Рубан сохранил живую историю освоения полярных областей. Доклад посвящен анализу историко-бытовых сведений, содержащихся в графических листах И.П. Рубана из собрания Российского государственного музея Арктики и Антарктики.
«На фоне гор. Живопись художников Балкарии» – текст Ж.М. Аппаевой. В картинах балкарских авторов мы не увидим каких-либо конкретных географических примет местности. Они создаются для передачи тех чувств, что переживают сами художники. Потому живописцы прибегают к активному преображению природного ландшафта, подчинению его определенному творческому замыслу, конкретной идее. Образы гор, кавказской природы они обогащают многозначными смыслами. Художники ищут визуальный эквивалент балкарского мира, используя его образные единицы и концепты, такие, как горы, дом, дерево, камень, вода и так далее, и с их помощью маркируют то или иное событие, состояние души своих персонажей, их психологический облик. В зависимости от поставленной задачи авторы акцентируют внимание на ландшафтной или социальной жизни жителей гор, понимая кавказскую природу, по удачной формулировке Д.С. Лихачева, как «выражение души народа».
В статье И.А. Панченко «Сицилийские виды фотографа Джузеппе Инкорпоры (1834–1914)» впервые рассматривается один из уникальных комплексов представительной фотоколлекции Русского музея – альбуминовые отпечатки, созданные этим талантливым сицилийским мастером светописи. Много путешествуя по родному острову, Дж. Инкорпора исполнил настоящую фотографическую сюиту, запечатлевшую специфику неповторимых местных ландшафтов и богатейшего архитектурного наследия Сицилии, сформировавшихся в процессе геологических изменений и наслоения различных культур и цивилизаций: Палермо, Сиракузы, Чефалу, Таормина, Монреале, Селинунт, Агридженто, Катания и Мессина.
А.В. Васильева в статье «Образ Цейлона (Шри-Ланки) в произведениях В.А. Ватагина» представила комплекс графических и живописных произведений из фондов Дарвиновского музея, посвященных путешествию художника в Индию и на Цейлон в 1914 г. Среди работ редкие экземпляры первого и второго изданий серий автолитографий 1919 г. «Индия», где автор создал образ экзотической мистической обобщенной «Индии», в который сливались континентальная Индия и остров Цейлон. Исследуются произведения, где на основе воспоминаний В.А. Ватагина атрибутированы цейлонские архитектурные памятники и пейзажи. Остров предстает как в графике, так и в текстах воспоминаний благостным райским местом, в отличие от загадочной Индии с ее древними богами и опасными болезнями.
Исследование «Восток Р.Дж. Киплинга в советской детской иллюстрации» Ж.В. Уманской возвращает читателей в мечты юности о прекрасной Индии, натурных пейзажей, лаконично модифицированных в графике профессиональными художниками.
Дрейф стилей в пространстве – направление, предложенное еще в самом начале проекта известным географом Ю.А. Ведениным [1997].
В.Д. Андрианов в статье «Японские культурные традиции создания и созерцания прекрасного» показал историю и философию японского пейзажного искусства и его проникновение и модификации в современном западном мире.
Статья «Общность регионального процесса формирования средневековой восточной миниатюры: изображения танцовщиц, их костюмов и атрибутики» азербайджанской исследовательницы А.Б. Гусейновой показывает историю формирования центров школ миниатюр (тебризской, гератской, могольской, казвинской и др.), находящихся на территории современных стран Средней Азии, Афганистана, Азербайджана, Ирана, Турции, арабских стран, Индии и др. В средневековой восточной миниатюре часто изображались и были очень популярны дворцовые сцены с придворными танцовщицами, окруженными шахом, его придворными, музыкантами, прислугой, эти миниатюры дают прекрасный фактический материал по изучению средневекового восточного танца, его костюма, атрибутики и т. д.
Е.А. Забродина представила исследование «Византийская иконография Богоматери и нидерландское искусство XV – начала XVI в.: от повторений к интерпретациям». С XIII в. существовал активный культурный и торговый обмен между нидерландскими провинциями и Византией. Одной из возможностей сблизить позиции представителей восточной и западной церквей было почитание Богоматери. Именно в это время привезенный во Фландрию алтарный образ – так называемая Мадонна Камбре – становится источником огромного количества повторений и интерпретаций во многом благодаря убежденности, что оригинал был написан евангелистом Лукой. Кроме «Мадонны Камбре» существовал еще один широко распространенный тип византийской иконографии – «Взыграние младенца», который стал широко известен в Нидерландах благодаря работе ван Эйка «Мадонна у фонтана». Этот небольшой алтарь для личного благочестия был чрезвычайно популярен, что также привело к многочисленным повторениям и интерпретациям на протяжении следующих десятилетий.
А.А. Шевлягин в статье «Парные фигуры сфинксов из собрания ГМЗ “Петергоф”: к истории бытования в XX веке» показал историю и иконографию артефактов, поступивших в музей-заповедник в 1959 г. в сильно поврежденном состоянии. Проведенное исследование пролило свет на историю их бытования в XX столетии и позволило обнаружить аналогичные памятники, которые помогут в реставрационных работах при воссоздании недостающих деталей. Фигуры из коллекции ГМЗ «Петергоф» являются примером художественного прочтения египетских мотивов в отечественном искусстве. Ценность этих скульптур в том, что они имеют мужской торс и ряд редко встречаемых у сфинксов деталей древнеегипетского костюма. Их пропорции, стилистические и композиционные особенности позволяют говорить о максимально близком сходстве с гранитными сфинксами 1790-х годов, ныне находящимися во дворе Строгановского дворца в Санкт-Петербурге.
«Пространство процессов: о перспективах исходов и встреч двух китайских текстов русской культуры в общем исследовательском пространстве» – текст А.П. Люсого. Автор считает, что у истоков изучения российского исхода в Китай стоит фигура Пушкина. В ХХ в. Харбин стал «столицей» русской эмиграции в Китае, истоком спасительного воспоминания, которое позволяло воскресить в памяти русскую культуру. «Китайский ум» привнес в поэзию дальневосточного зарубежья такие мифологемы культурного ландшафта, как космос и хаос. Второй, советский китайский текст сопровождается «опьяненным» дискурсом, дискурсом вдохновения и одержимости, представляя китайскую революцию как священный процесс очищения пространства и времени от насилия и колониализма. В советском китайском тексте литература конкурирует с фотографией и кино. Классический балет делает ставку на мейерхольдовскую биодинамику, и полем битвы является именно «Китай».
Новая тема в дискуссии – геометрия как философия пространства.
Перуанский исследователь Оскар Герреро и А.А. Строганова представили здесь статью «Трансценденция американских узоров». Пиктографическая функция образов-символов важна намного больше, чем декоративная. Они используются как культовые или магические знаки, а также для отображения моделей устройства Вселенной и миропорядка, применялись не только как декор, но и как архитектурные модели культовых доколумбовых сооружений. Геометрические узоры обладают свойством организовывать пространство и воздействовать на глубины сознания.
Художник И.А. Шарапов в тексте «Масштабируемая топология орнамента» поднял проблему трансформации орнамента из локальной позиции в концептуальную пространственную структуру. Детально эксплицировав основу формообразующих принципов орнамента, автор резюмирует их комплексную связность в качестве пространственно-концептуальной структуры, актуальность расширения орнамента в контексте архитектурного формообразования.
Е.С. Трусевич показала возможности создания «Смысловой геометрии на разных структурных уровнях фильма». В качестве примера она анализирует круг, как структурную основу фильмов «Осенний марафон» Г. Данелия и «Похитители велосипедов» В. де Сика (круг в системе символов; закольцованная композиция, создающая круг; круг как главная тема и идея). Анализируется линия фильма «Веревка» А. Хичкока (линия как часть системы символов, как операторская стратегия, сюжетная композиция). Спираль ДНК как геометрическая основа фильма «Гены Гены» (2020) – переходы актеров из комнаты в комнату по линии спирали, спираль как форма сюжетной композиции. Круг, спираль – это тоже своего рода универсальные архетипы, идущие из архаики в современность и тем более исподволь определяющие современное восприятие художественного пространства.
* * *Проект «География искусства» продолжает открывать все новые аспекты темы и методологические подходы. Проект по-прежнему объединяет географов, культурологов, философов, историков, искусствоведов, литературоведов и других специалистов и расширяет профессиональные и смысловые границы.
Список литературыВеденин Ю.А. Очерки по географии искусства. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1997. – 224 с.
География искусства / отв. ред. Ю.А. Веденин; сост. О.А. Лавренова. – Москва: Институт Наследия, 1994. – Вып. 1. – 153 с.
География искусства / отв. ред. Ю.А. Веденин; сост. О.А. Лавренова. – Москва: Институт Наследия, 1998. – Вып. 2. – 252 с.
География искусства / отв. ред. Ю.А. Веденин; сост. О.А. Лавренова. – Москва: Институт Наследия, 2002. – Вып. 3. – 199 с.
География искусства / отв. ред. Ю.А. Веденин; сост. О.А. Лавренова. – Москва: Институт Наследия, 2005. – Вып. 4. – 274 с.
География искусства / отв. ред. Ю.А. Веденин; сост. Т.В. Левина, О.А. Лавренова. – Москва: Институт Наследия, 2009. – Вып. 5. – 351 с.
География искусства / отв. ред. Ю.А. Веденин; сост. О.А. Лавренова. – Москва: Институт Наследия, 2011. – Вып. 6. – 454 с.
География искусства: междисциплинарное поле исследования / отв. ред. и сост. О.А. Лавренова. – Москва; Санкт-Петербург: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 208 с.
География искусства: инсайд-аут / отв. ред. и сост. О.А. Лавренова. – Москва: ГИТР, 2018. – 316 с.
География искусства: расширение горизонтов / отв. ред. и сост. О.А. Лавренова. – Москва: ГИТР, 2019. – 414 с.
География искусства: новые ракурсы / отв. ред. и сост. О.А. Лавренова. – Москва: ГИТР, 2020. – 472 с.
География искусства: пространство, подчиненное стилю / отв. ред. и сост. О.А. Лавренова. – Москва: ГИТР, 2021. – 488 с.
География искусства: многомерные образы пространства / отв. ред. и сост. О.А. Лавренова. – Москва: ГИТР, 2022. – 374 с.
Лавренова О.А. «География искусства»: междисциплинарный проект в долговременной перспективе // Labyrinth. Теории и практики культуры. – 2020. – № 4. – URL: https://labyrinth.ivanovo.ac.ru/category/journal/4-2020/
География искусства: ландшафтные миры культуры и искусства / сост. и отв. ред. О.А. Лавренова. – Москва: ГИТР, 2023. – 366 c.
Лавренова О.А. IX Международная научная конференция «География искусства» // Наука телевидения. – 2023а. – № 19(2). – С. 245–258. DOI: 10.30628/1994-9529-2023-19.2-245-258. EDN: BSBPSD
Лавренова О.А. IX Международная научная конференция «География искусства» // Вестник культурологии. – 2023б. – № 4(106). – С. 270–283. DOI: 10.31249/hoc/2023.04.17
Olga A. Lavrenova
Introduction
The meanings of space
Abstract. The multi-year interdisciplinary project "Geography of Art" includes the publication of collections and annual conferences. This collection was created based on the results of the IX International Conference devoted to the study of the problems of interaction between art and space. The collection traditionally deals with the problems of local texts, artistic images of space, the drift of styles on the Earth's surface, etc. This project is distinguished by an integrated and multidimensional approach to the issues under consideration.
Keywords: geography of art; space; art; cultural landscape.
Семиотика ландшафта
Semiotics of the landscape
О.А. Лавренова
Колористическая семантика культурного ландшафта[2]
Аннотация. Культурный ландшафт – результат постоянного взаимодействия вмещающего природного ландшафта и культуры. Смыслы, символы, коды культуры являются его неотъемлемой частью. В данной статье анализируется колористическая семантика культурного ландшафта в рамках междисциплинарного дискурса культурной географии и семиотики цвета. Проведен обзор современной литературы по текущим исследованиям за 20 последних лет. Цель состоит в том, чтобы с помощью междисциплинарного подхода проанализировать существующую практику исследований, основанных на фактических данных и современных теоретических основаниях, чтобы получить достаточно целостную картину понимания колористической семантики культурного ландшафта. На основании обзора и анализа разрозненных исследований впервые соотносятся разные типы культурных ландшафтов (городские, сельские, сады и парки) и разные типы знаковых функций, которые выполняет в них цвет, – сигналов, индексов, иконических моделей, условных знаков или символов, нулевых или пустых знаков. Анализируется разница семантики хроматических и ахроматических цветов в ландшафте. Также исследуется хромо-динамика ландшафта, а именно создается классификация видов и смыслов цветовых фокусов разной длительности – от нескольких дней до десятилетий. Цветовые локусы-знаки находятся в постоянной коммуникации в культурном ландшафте, представляющем собой поле постоянного «культурного взрыва», где транслируются традиционные смыслы культуры и порождаются новые значения. Цветовая символика является частью «ландшафта-как-текста», содержащего те или иные сообщения – «послания» культуры самой себе. В этих посланиях цвет обладает сакральной, темпоральной, исторической семантикой, создавая пролонгированный смысловой фрейм для воспроизводства культурных кодов.
Ключевые слова: культурный ландшафт; семантика цвета; знаковые системы культуры.
Введение
Культурный ландшафт – результат постоянного взаимодействия культуры и вмещающего природного ландшафта. Семантика культурного ландшафта определяется всем спектром значений, входящих в ментальность культуры. Символические значения цвета складываются из психологических особенностей восприятия цвета и культурных традиций. «Цвет – явление прежде всего социальное. Именно общество “производит” цвет, дает ему определение и наделяет смыслом, вырабатывает для него коды и ценности, регламентирует его применение и его задачи» [Pastoureau, 2001].
Колористика культурного ландшафта представляет собой знаковую систему, и «цвет понимается как способ визуальной коммуникации, особого рода язык, состоящий из отдельных знаков. Каждый цветовой знак имеет разные по глубине уровни значения. Один и тот же тон или оттенок, в зависимости от контекста и условий его использования, может выступать в роли индекса, поскольку форма следует из содержания и провоцируется ей; копии, где форма повторяет содержание; или символа, где форма связана c содержанием совершенно произвольно и условно» [Грибер, 2018, с. 23]. Цвет имеет семантическую функцию, в соответствие с ней цвета также могут играть роли сигналов, имея функцию оповещения, индексов и иконических моделей, согласно классификации основоположника семиотики Чарльза Пирса. Цвет как и другие знаки может иметь функции закрепления, хранения и трансляции информации, в том числе и через поколения. «Значение в цветовом поле удается обозначить как примыкание к тому или иному образному строю, к которому отсылают общее настроение определенного цветового пространства или его отдельных элементов, связанные с ним ассоциации. Однако в цветовом поле существуют знаки разных уровней семиотичности – от простых до самых сложных» [Грибер, 2017, с. 14].