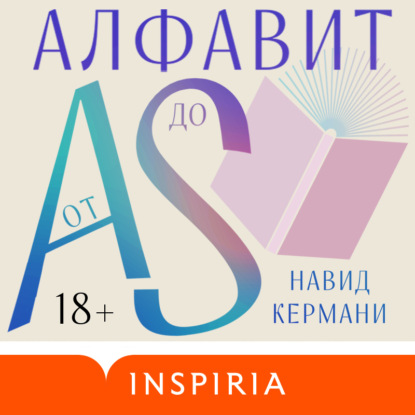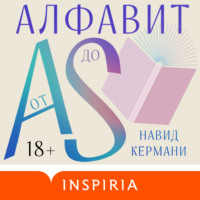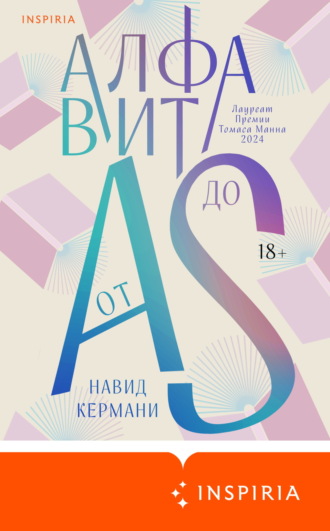
Полная версия
Алфавит от A до S
Пока книги сохраняют материальную форму, писательство остается физическим трудом, подумала я, поднимая коробки с книгами на третий этаж. Конечно, брошюры для Чехелом будут невероятно хороши, ведь их изготовит одно из самых известных издательств страны. Я уже знаю, что придется созваниваться с верстальщицей не раз и не два, трижды мы будем пересылать туда-сюда верстку, каждый раз находя ошибки и в последний момент исправляя текст. Но в итоге каждая точка окажется на своем месте, шрифт будет легко читаем, бумага – качественной, а брошюра – приятной на ощупь. Родственники будут с восхищением проводить пальцами по страницам, радуясь материальному воплощению речи.
Теперь стопки книг по социальным наукам громоздятся в прихожей, а на их месте в моей книжной келье в алфавитном порядке стоят поэты, эссеисты и романисты, которые до того лежали на полу. Как я уже говорила, все авторы на букву J переехали на три полки ниже, так что, возможно, я наконец доберусь до Уве Йонсона, который стоит нечитаным с тех пор, как я купила его «Годовщины» на книжном развале у философского факультета, а это было… так, сейчас посчитаю… двадцать шесть лет назад. Столько лет под одной крышей, не сказав друг другу ни слова, – ни один брак столько не продержится. Но куда большее потрясение я испытала от ряда авторов на букву H. До Гельдерлина и Гейне я еще могу дотянуться, но для Хафиза уже придется вставать на стул, как и для Гомера, Гессе или Зигмунта Гаупта [2]. Более того, для двух верхних полок, где стоят Хедаят, Хемингуэй и Гебель, понадобится лестница – уход мужа явно не пошел им на пользу. До Грасса тоже дотянуться можно только со стула, но это я переживу, главное, что до Гете я дотянусь – пусть даже придется встать на цыпочки.
С буквой А всегда было трудно – книги на нее стояли в левом верхнем углу и потому были в невыгодном положении. После перестановки изменилось лишь то, что третья полка, до которой достаю со стула, теперь увеличилась за счет таких авторов, как Ахматова, Антунеш и Аднан, тогда как для Алексиевич, Арагона или Андрича мне по-прежнему нужна лестница. Впрочем, буква А для литературы не столь важна, как H или S, к тому же Эсхил стоит среди драматургов. Полка с авторами на букву B выиграла от распада моей семьи больше многих остальных, поскольку теперь все книги на ней находятся в пределах досягаемости – не только Беккет, Борхес и Бюхнер, которые теперь стоят на уровне глаз, но и Бодлер, Бергер и Бахман, оказавшиеся на полке ниже.
Однако настоящим победителем в этой перестановке оказалась буква J. Остальные классики на K, H или S всегда находились в пределах досягаемости, потому что занимали несколько полок, что позволяло распределить книги равномерно. Но с Жаном Полем, Джойсом и Елинек дела обстояли иначе: как бы я ни переставляла Гельдерлина и Кафку (I можно вообще забыть в литературе), они оставались несчастными авторами, для которых требуется лестница, – их книги стояли то в самом верхнем, то во втором сверху ряду, и единственное, что я могла сделать с помощью небольших ухищрений, – переместить их пониже за счет писателей на I (Ибсена, Исигуро, Иммермана). Теперь же, мирно соседствуя с таким же непрочитанным собранием сочинений Янна, на меня каждый раз смотрит Уве Йонсон, когда я выхожу из кухни с чаем. Со своей лысиной, трубкой и очками для чтения, он, конечно, не писаный красавец, но все же личность заметная. Остальные мужчины, словно сговорившись, смотрят куда-то мимо меня.
14Старость легла на Оффенбаха, словно грим: морщины на лице выглядят так, будто их нарисовали слишком толстым карандашом, волосы словно покрыты белой краской, но ум и тело по-прежнему сохраняют удивительную силу и подвижность даже при подъеме по лестнице. Поэтому возраст не может быть объяснением того, почему его слова, некогда казавшиеся мне пророческими, теперь кажутся просто умными, а иногда банальными. Те же самые слова, которые раньше я почти принимала за откровения. Возможно, они износились от многократного повторения? Или имели большее значение, чем я придавала им, когда критика превозносила Оффенбаха до небес? Я почувствовала себя избранной, когда из всех молодых неизвестных авторов он дал свои наставления именно мне. Разочарование, которое я сейчас чувствую, указывает на новый путь. Уходит не только слава, но и сила ее воздействия.
И пока я так думаю, Оффенбах, который теперь публикуется только в небольшом католическом издательстве, снова становится мне дорог. Ведь спустя двадцать – двадцать пять лет мы по-прежнему близки, хотя в нашей связи больше нет ничего особенного, ничего возвышенного – это просто реальность, на которую он указывает даже в своем исчезновении. Оба мы в приподнятом настроении, я так впервые за несколько недель, даже месяцев. Я обещаю, что скоро снова навещу его в доме престарелых.
15Интересно, испытывали ли писатели, чьи книги меня окружают, то противоречие между любовью и литературой, которое кажется вечным, – борьбу между буржуазным существованием и жизнью художника? Вижу из окна молодого соседа с четвертого этажа. Раз в неделю он вытаскивает свою дочь из детского кресла в машине – ей, наверное, года два, а родители уже в разводе. Сосед прижимает девочку к груди с такой нежностью, словно она спит, и осторожно несет в дом. Через минуту после того, как они заходят, я слышу плач за дверью.
Как бы коротка ни была семейная жизнь моего соседа, наверняка многие его недоразумения были похожи на те, что произошли у соседки, чьи книжные полки видны со двора, – начиная с девятнадцатого века люди сталкиваются с одними и теми же проблемами, неважно, на втором или четвертом этаже они живут, почитайте классику – от Остен до Цвейга. С тех пор как я сама провожу только половину недели со своим сыном, а оставшуюся – одна, я с интересом наблюдаю за соседом. Мы редко разговаривали, перекидывались лишь парой фраз в подъезде, вроде «добрый день» или «с Новым годом», но теперь я чувствую с ним странную связь. Я тоже скучаю по сыну, когда он у другого родителя, и, что неожиданно, скучаю по отцу своего сына, который когда-то был для меня самым близким человеком на свете. И мне становится грустно за маленькую девочку, которую сосед держит на руках.
Однако, быть может, у авторов, чьи книги меня окружают, был конфликт, который усложнял их брак, но которого не было у соседа и уж тем более – у моих знакомых, чьи браки сейчас распадаются один за другим. Этот конфликт связан с искусством как индивидуальным творчеством, что стало особенно заметным в современную эпоху. С возникновением буржуазного общества появился и образ художника как противоположности обывателю, пусть даже внешне он часто ведет самую обычную жизнь – ходит на родительские собрания, оформляет страхование жизни, занимается спортом или даже хобби, несмотря на то что у художника нет выходных, только дни стирки, как любил говорить Оффенбах. Ведь художник свободен лишь в своем творчестве, что и является определением его свободы, а искусство возможно только там, где ничто в жизни не ставится выше. Разве что ребенок может соперничать за внимание, но ни одна возлюбленная – тем более после того, как угаснет романтическое начало. И даже ребенок, вероятно, только потому, что также воспринимается художником как его творение.
Рана возлюбленной, однако, не заживает, а лишь воспаляется, когда она видит, с какой самоотверженностью партнер заботится о ребенке, но игнорирует ее, ее желания, ее друзей и цели. Конфликт становится еще острее, когда художник – это женщина и она принижает мужчину не только как любовника, но и как родителя. Одержимость своим трудом, которая неизбежно сопровождается нарциссизмом (ведь как можно творить день за днем, не считая себя важным?), скорее всего, разрушит брак, если только второй партнер не является музой, поклонником или тоже художником. В противном случае этот конфликт становится неразрешимым, особенно когда речь заходит о так называемой автофикции, как у Брингманна, Курцека или Эрно, которая не нова, но в последнее время снова вошла в моду. Здесь он касается самой сущности литературы. Мои дни, наряду с книгами в книжном шкафу, становятся материалом для нового произведения; только если жизнь и литература переплетаются, создается новое произведение, которое находит свое место между A и Z.
Можно понять, почему мужчина может чувствовать себя использованным и обнаженным, особенно если его любовь зародилась еще до того, как появилось творчество, и он, давая брачную клятву, не имел ни малейшего представления о том, на что соглашается. Возможно, ему позволяют читать рукописи первым, и он должен быть благодарен за это, однако, если его критика мешает, его оставят за бортом, в то время как коллеги, редакторы и издатели получат доступ к ее самым сокровенным мыслям. Появляется еще и чувство ревности – не только к живым людям, но и к мертвым, к книгам в ее окружении. Возможно, его любовь окажется достаточно сильной, чтобы он смог выдержать эту ревность, возможно, чувство долга перед семьей перевесит. Или, возможно, ему не нужно восхищение для уверенности в себе. Но я, видимо, не обладаю качествами, которые смогли бы компенсировать мою поглощенность собой.
16На Рейне снег обычно задерживается ненадолго – тает примерно через час. А вот в горах, судя по новостям, зима вступила в свои права, и многие приглашенные сообщили, что не смогут приехать на церемонию. Во дворе припаркована машина, которая как будто прибыла с другого континента, – капот и крыша белые, покрыты снегом, так же, как и края стекол. Неужели на трассе снег не слетает? В Вестервальде, откуда, возможно, приехала эта заснеженная машина, каждую зиму из-за снегопада жизнь замирала на день или два, и даже потом на тротуарах появлялись лишь узкие расчищенные полоски. Как же радовалась одна маленькая девочка, когда взрослая жизнь останавливалась! Даже на низкой скорости машины все равно заносило, и они врезались друг в друга. Оранжевые аварийные мигалки включались напрасно, и как смешно было, когда пешеходы теряли равновесие и падали! Теперь, став взрослой, эта девочка сожалеет, что многие не смогут приехать на церемонию. Но, быть может, это горы, в которых мама прожила пятьдесят лет, послали реке снежный привет. Пусть даже сама она никогда не называла Вестервальд своим домом.
17Образ, который отложится у всех в памяти, – это не тщеславная брошюра, к счастью оставшаяся без внимания, а внуки, которые один за другим выходят к трибуне и делятся своими воспоминаниями: бабушка всегда долго обнимала меня при встрече, пока не понимала, что со мной все в порядке. А я однажды ворвался на кухню, где стояла дымящаяся кастрюля, и закричал: «Бабушка, у тебя молоко убежало! Молоко убежало!» – а она мечтательно показала мне на черно-бело-коричневые пятна и попросила принести альбом для рисования; отпечаток дна кастрюли теперь висит в мастерской внука, который стал художником. А мне она по секрету сказала, что я ее любимчик, и мне потребовалось двенадцать лет, чтобы понять, что она говорила так каждому из нас. А мой сын слушал ее истории, и это его самое раннее воспоминание: рассказы, которые, в свою очередь, были чужими воспоминаниями, уходящими корнями к началу времен.
Внуки видят свою бабушку такой, какой она была для них, а дети создадут образ, который будет либо слишком сентиментальным, либо искаженным из-за конфликта, через который формировалась их личность. Ведь родители и дети неизбежно причиняют друг другу боль, совершают ошибки. Внуки же способны воспринимать бабушку и дедушку без этого груза, без обид и ссор, без напряженного взросления. Они не видели, как их бабушка развивалась, совершала ошибки или терпела неудачи, и могут оценить ее такой, какой она стала в конце жизни.
Создается впечатление, что внуки говорят о бабушке, как о святой, в то время как ты, ее дочь, стремишься к большей объективности. Но кто сказал, что они ошибаются? Кажется, будто сама смерть срежиссировала эту картину: все внуки собрались на сцене, и вот в первом ряду внезапно встает старик, с которым покойная прожила шестьдесят лет, с которым спорила шестьдесят лет, – и связывала их не романтическая любовь вовсе, разве что поначалу, в первый год, – он с трудом поднимается по ступенькам, опираясь на трость, становится в центр и с пылом влюбленного юноши декламирует стихотворение на персидском языке. Этого образа – образа почти девяностолетнего старика, который стоит среди внуков и правнуков, и тоскует по своей любви, и с каждым длинным, почти напевным концом строки поднимает свободную руку вверх, – более чем достаточно, и он не требует участия или присутствия нас, детей, чтобы быть значимым. Вы осознаете это лишь тогда, когда все складывается в финальную сцену, как в драме, или когда случайности жизни выстраиваются в роман. Все мы – лишь звенья в непрерывной цепи, необходимые для того, чтобы семья могла существовать дальше.
18«Каждый, кто произносит речь на похоронах, сам рано или поздно окажется в могиле» [3], – приходит мне в голову, когда я, стоя на стремянке, читаю слова Карла Крауса, сказанные 11 января 1919 года на Центральном кладбище Вены. С высоты красный ковер с цветочными украшениями, расстеленный на деревянном полу, похож на холм на маминой могиле, возвышающийся над тщательно выровненной землей. К счастью, сестра догадалась предупредить садовника о том, что на Чехелом семья снова соберется у могилы, иначе нам бы пришлось молиться перед увядшими венками. Интересно, могло ли это осознание – что однажды мы сами окажемся здесь, в траурном зале, в гробу или урне – принести нам какое-то утешение? Или эта мысль вызвала бы только ужас?
В завершение траурного месяца я хочу перечитать тех авторов, чьи книги пылятся на полке, как Уве Йонсон и Ганс Хенни Янн. Уже под буквой А их оказалось больше, чем я думала: среди них довольно известные – Давид Албахари, Пол Остер, Гийом Аполлинер, которых прежде я едва удостаивала взгляда. Даже в собрании сочинений Ахима фон Арнима я нашла только один рассказ, «Изабелла из Египта», который читала. Интересно, давно ли здесь стоит книга «Беседы о смерти»? Обычно я считаю такие книги лишенными смысла: либо это беседа, либо книга, но на высоте двух метров над ковром, напоминающем о маминой могиле, я все же открываю ее.
«Стремитесь ли вы к смерти?» – спрашивают Ильзу Айхингер. «Да, – отвечает она без колебаний, – мое единственное сожаление в том, что нельзя испытать смерть как состояние. Она похожа на крепкий сон, который, правда, приходит ко мне редко. Я бы хотела осознать, что я мертва, меня угнетает мысль о том, что я не смогу насладиться триумфом отсутствия. Конечно, здесь есть противоречие, потому что, когда я буду мертва, я надеюсь, что полностью исчезну, как всегда хотела» [4].
Держа перед собой книги, медленно, ступенька за ступенькой, спускаюсь по стремянке и складываю на письменный стол стопку нечитаных авторов на букву А. Башня получилась яркая, высотой почти до моего предплечья. Впервые обращаю внимание на роман Фади Аззама «Сармад», который мне подарил Рафик Шами. Так всегда бывает с подарками, и с моими, наверное, тоже – их не открывают годами. Но для Рафика Шами это, вероятно, еще печальнее, ведь никто не интересуется его родной страной, к которой он, как и любой эмигрант, привязан особенно крепко. Сирия никого не лишает сна, несмотря на то что война там идет уже дольше, чем обе мировые войны, вместе взятые. Африн и Восточная Гута – вот города, которые с недавних пор на слуху, но никто не возмущается резней мирных жителей и иностранным вмешательством. Ни демонстраций, ни пикетов, ни петиций, ни дебатов в Бундестаге или Европарламенте. Только за последние дни тридцать тысяч человек бежали из окрестностей Алеппо перед наступающей армией. А в газете написано, что за прошедшие сорок восемь часов погибло наибольшее количество людей за последние пять лет.
На клапане – фотография Аззама: задумчивый мужчина лет сорока сразу располагает к себе, да, его можно назвать привлекательным. Длинные каштановые волосы, густая борода, одной рукой он подпирает подбородок. Аззам снят на фоне затянутого облаками неба, которое могло быть как над Сирией, так и над Европой. О его творчестве почти ничего не написано, а в биографии указано только то, что он родился в деревне Таара, недалеко от города Сувейда, где не было электричества. «Я учился читать при свечах, поэтому для меня буквы всегда светятся», – говорится в биографии. В выходных данных написано, что фото сделал сам Рафик Шами, – должно быть, автор ему очень дорог. Что ж, Аззам еще жив, возможно, даже знаменит у себя на родине, поэтому я кладу книгу обратно на стол и беру Петера Альтенберга, чью «Книгу книг» Академия бесплатно разослала всем своим членам – ограниченное издание, которое нигде не купить. «Благородный человек! Благородный человек! Горько веку, что тебя отверг!» – завершает Карл Краус свою траурную речь, завершает третий и последний том: «Горе потомкам, которые тебя не признают!»
«Он хотел защитить людей, особенно наивных, невинных девушек от разрушения их реальности», – пишет Вильгельм Генацино в предисловии. Сам Генацино в своих книгах тоже выступает своего рода фланером, рефлексирующим по поводу городской повседневности, тон его более меланхолично-дружелюбный, без того едкого сарказма, как будто он сохранил мечту, о которой тосковал Альтенберг: мечту о том, чего нет и чего не будет. Альтенберг всего лишь один раз в жизни надолго покинул Вену, когда в двадцать три года влюбился в девушку на десять лет младше. Он проводил ночи в слезах, обручился с ней и стал книготорговцем в Штутгарте, чтобы быстро заработать деньги и обеспечить ее в будущем. Но из этого ничего не вышло. Нет, не вышло: из-за нервного расстройства Альтенберга признали нетрудоспособным, он пристрастился к наркотикам, и его записи превратились в обрывки мыслей. «В моих книгах есть несколько красивых фраз, но их надо суметь выудить из хаоса мыслей» [5], – писал он.
Оффенбах рассказывал, что однажды на книжной ярмарке перед ним стоял дрожащий худой старик – дряхлый и, видимо, слегка растерянный, который поприветствовал его с безмерной печалью. Оффенбаху понадобилось некоторое время, чтобы узнать в этом старике Генацино. «Позже судьба обрушилась на нас, словно неожиданная орда гуннов, и повсюду нанесла нам тяжелые поражения» – так звучит одна из красивых фраз Альтенберга. Должно быть, их не так уж мало, если в одном только предисловии Генацино столько цитат.
19Мы идем вдоль Рейна, снова обсуждая воспоминания внуков о бабушке. Впервые за долгое время небо ясное, и солнце одновременно светит со спины и отражается в реке, которая разлилась так сильно, что напоминает озеро.
– Представь себе, – говорю я сыну, пытаясь его утешить, – что бабушка умерла бы до твоего рождения. Разве было бы лучше, если бы ее не стало тогда, а не сейчас?
– Такое невозможно представить, – возражает сын, – нельзя представить, что человек, которого ты знаешь, никогда не существовал.
– Но ведь часто бывает, что внуки не успевают познакомиться со своими бабушками и дедушками.
– И каково это? – спрашивает он.
– Похоже на слепое пятно, потому что собственная память, как я знаю по писательскому опыту, охватывает два поколения – назад и вперед. От бабушек и дедушек, которые были детьми, до внуков, которые станут старыми. Их жизненные пути еще можно представить, они видимы, они как бы обрамляют твою собственную жизнь. Все, что было до них или будет после, превращается в исторический или фантастический роман, не имеющий связи с тобой. Моя родившаяся в середине девятнадцатого века прабабушка, которую я видела только на черно-белой фотографии – первая слева в светлой чадре и со сросшимися бровями, – для меня чужой человек, существующий лишь в рассказах. Как и моя бабушка для тебя. Человек может обнять только двух людей – слева и справа от себя, заглянуть на два поколения в прошлое и будущее, вот и весь его мир. И если бы бабушка умерла до твоего рождения, то место слева было бы пустым.
Мы встречаем знакомого, который слышал о нашем горе. Выразить соболезнование ему, видимо, трудно; возможно, он считает, что обычные слова звучат банально, поэтому просто смотрит на нас с печалью. Мой сын сразу отводит взгляд.
– Солнце, – говорит знакомый, указывая на запад, – солнце заходит, а завтра снова взойдет. А вот человек… он исчезает и…
– Мы верим, – отвечаю я твердо, – что солнце взойдет и для умерших, просто в другом и даже лучшем мире.
– Красивая мысль, – соглашается знакомый, хотя мои слова предназначались больше для сына, которого, похоже, смутила метафора с заходящим солнцем. – Я тоже хочу в это верить.
Знакомый все еще стоит рядом, не знаю почему, а заходящее солнце светит нам троим в лицо.
Позже сын останавливается, глядя на ветки и мусор, которые плывут по Рейну, словно плоты, и на торчащие из воды деревья, и на игру света и облаков на поверхности реки, и на стайку уток недалеко от берега, которым не холодно зимой и не жарко летом – по крайней мере, так сказал его двоюродный брат.
20Каждый бегун радуется, как ребенок, когда ему удается ускользнуть от полиции, которая застала его при переходе железнодорожных путей. А как же радуется бегунья! Полицейские слишком важничают, чтобы погнаться за женщиной, это я уже знаю, и предвижу, что они объедут парк и попытаются перехватить меня на следующем перекрестке, как в детективном фильме. Наверняка для них это своего рода развлечение.
Но я тоже не промах и, увидев открытую калитку, скрываюсь в чужом саду, пробегаю между грядками и выхожу на параллельную улицу. Издалека вижу поджидающую меня полицейскую машину и надеюсь, что полицейские тоже видят, как я снова скрываюсь в парке. Даже если они выйдут из машины, им меня не догнать, а их крики я, увы, не услышу. На всякий случай быстро отвожу взгляд.
21Я уже готова согласиться с Петером Альтенбергом: его красивые фразы нужно извлекать из хаоса его любовных историй, как открываю второй том, где он жалуется на отсутствие внимания со стороны окружающих к его нервной системе. Скорее уж жаловаться должны были женщины, которых он осаждал. Какую чушь только не выдумывают мужчины, считая это галантностью: «Любовь мужчины – это мир! Мир женщины – это любовь!» Но вот Альтенберг впадает в ярость на женщин – и что происходит? На 380-й странице он впервые кажется мне интересным: «Тысячи грубостей и бестактностей окружающих нас людей разрушают нашу накопленную жизненную силу. Кроме того, тревоги, заботы, ревность, алкоголь, плохая еда, грубые официанты, грубые парикмахеры, грубые друзья – все это ежедневно, ежечасно поедает наши жизненные силы, причем делает это каким-то странным, изнуряющим и парализующим образом, подготавливая нас к диабету! Женщины особенно искусны в разрушении нашей жизненной силы, вызывая ревность – эту раковую бациллу души! Вдруг становишься зеленым и желтым, и жизненная энергия исчезает. Каждый человек – на самом деле трусливый коварный убийца всякого, кого он тревожит без самой крайней необходимости!»
Только за утро мне пришлось выслушать обвинения моего будущего бывшего мужа в том, что я не только плохая жена, но и плохая мать, и объяснения моей подруги – да, моей лучшей подруги, – почему она его понимает. В то же время по стационарному телефону министр пыталась убедить меня выступить с речью на – внимание, держитесь! – ежегодной присяге бундесвера, и сама мысль об этом уже отнимает жизненные силы. Одновременно отец трезвонит мне на мобильный. «Папа, я сейчас перезвоню, папа, я не могу сейчас говорить! Или что-то случилось, папа?» – И тут оказывается, что ему просто нужно, чтобы я отнесла рецепт в аптеку.
«Сохранение жизненных сил моего организма должно быть стремлением каждой по-настоящему дружеской души, – утверждает Петер Альтенберг. – Будь Франц Шуберт моим близким другом, я бы вдохновил его еще на две тысячи композиций. Я убедил бы его позаботиться о своих жизненных силах, чтобы сохранить себя для нуждающегося человечества. Я выступаю против божественного легкомыслия, но за тяжеловесную, как сама жизнь, осмотрительность».
Если так, то я должна быть благодарна утренним событиям: мир был избавлен как минимум от двух страниц моего творчества – настолько много энергии забрали у меня муж, подруга, отец и министр. Последняя еще и осторожно заметила, что поймет, если я откажусь: «Я тоже долго ухаживала за отцом и знаю по собственному опыту, что есть вещи важнее любой должности и любой речи». – «Мой отец не нуждается в уходе! – резко ответила я. – Он просто еще не до конца смирился с одиночеством».
22Сегодняшний день запомнился мне стариком, который стоял на набережной Конрада Аденауэра, ожидая зеленый сигнал светофора. Лицо старика покрывали глубокие морщины, ноги были тонкими, а тело – согнутым, как у святых на старинных картинах, только одет старик был в шотландскую военную форму с беретом. Белые бакенбарды, ордена – видимо, времен Второй мировой войны. Карнавальный костюм? Не похоже. Возможно, это была дань самому себе, своей истории.