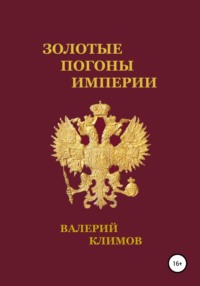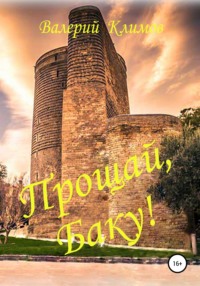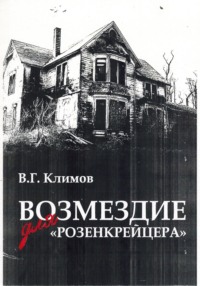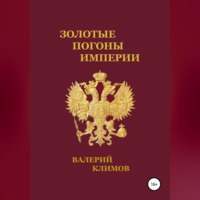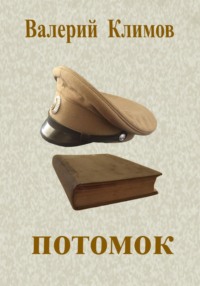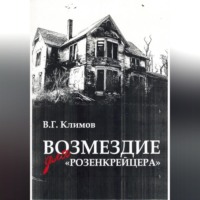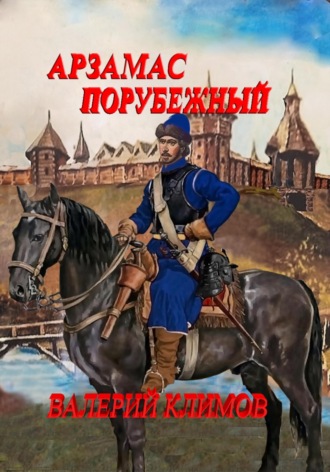
Полная версия
Арзамас порубежный
– Стой! Кто такие? Откель и пошто прибыли? – требовательно обратился к ним старший из "воротников".
– Государевы люди из Москвы. С поручением к воеводе! – громким и уверенным голосом произнес Григорий.
– Ишь ты, какой важный! Грамоту прежде покажь! – грозно потребовал старший стражник.
– Гляди, коли читать умеешь! – развернул перед его глазами царский указ спешившийся Бекетов.
– Ты, что ли – особый обыщик Бекетов? – уже более мягко и тихо спросил у него придирчивый "воротник".
– Я, – также негромко ответил Григорий.
– А подле тебя, поди – подьячий Ларин? – уточнил, на всякий случай, никак не успокаивающийся стражник, медленно переводя свой взгляд с Бекетова на его помощника.
– Ларин… Ларин! – не выдержал и ответил сам за себя спешившийся вслед за Григорием Петр, недовольно взглянув на спрашивающего "воротника".
– Ну, добро! Проходьте! И лошадок своих заводьте! За воротами своротьте налево – к храму во имя Архистратига Михаила (на его месте в Арзамасе сейчас расположен величественный кафедральный собор Воскресения Христова – прим. автора). Как обойдете его, так окажетесь прямо у ворот Малого острога. Ну, а там, не обессудьте уж, люди московские – с вас тоже грамоту спросят. Воевода у нас строгий… порядок во всем любит, а в нашей службе "воротной" – особенно, – обстоятельно объяснил свою требовательность старший стражник и, наконец-то, пропустил обоих государевых людей в арзамасскую крепость.
Как он и предупреждал, в воротах Малого острога опросная процедура с осмотром царской грамоты повторилась в мельчайших подробностях, но морально готовые к ней путешественники выдержали ее уже без особого раздражения.
Ну, а далее, буквально, в паре десятков саженей от входа в этот главный административный острог крепости начинался воеводский двор, найти в котором хоромы арзамасского воеводы для Бекетова и Ларина не составило уже никакого труда.
Это была самая большая в остроге рубленая изба-пятистенка, в два света (помещение без потолочного перекрытия между нижней его частью и верхней, вплоть до кровли – прим. автора), с высокой крышей и хорошим прочным крыльцом без каких-либо украшений, стоящая во дворе вместе с "прилепленными" к ней сзади сразу несколькими "людскими" клетями (самыми простыми в постройке небольшими жилыми домами-срубами – прим. автора), опирающимися на расположенные под ними хозяйственные подклети, ледником (погреб со льдом — прим. автора), кухней и большой конюшней.
Несомненно, данная изба могла бы быть еще лучше: и вместительнее, и наряднее, но была такая, какая есть: простая и крепкая. Видимо, первые строители крепости так определили ее функционал: "надежность в ущерб нарядности", а сменяющиеся через каждые два-три года воеводы, судя по всему, не очень-то и стремились перестроить отведенные им хоромы и уж, тем более, возвести на их месте новые…
Григорий с Петром подошли к крыльцу воеводской избы, на котором лениво скучали два вооруженных стрельца, и Бекетов, оставив Ларина с лошадьми у входа, без лишних слов предъявил караульным свою царскую грамоту.
Один из стражников, внимательно ознакомившись с ней, тут же прошел внутрь избы, а другой, оставшись возле дверей и держа свой бердыш наготове, принялся, тем временем, зорко контролировать каждое движение Григория.
"Да… сторожевая служба поставлена тут весьма неплохо", – невольно отметил про себя Бекетов.
Наконец, первый стражник вышел из сеней и сказал Григорию, что воевода ждет его в своей палате.
После этого он пропустил Бекетова в сени вперед себя и сопроводил его до дверей воеводской палаты, крепко держась одной рукой за рукоять своей сабли и слегка придерживая ее ножны другой.
Так вместе с Григорием он и вошел к воеводе, который, впрочем, резким знаком руки тут же отпустил его из своей палаты.
Бекетов дождался, когда стражник закроет за собой дверь с внешней стороны, и не спеша направился к столу, за которым сидел одетый в длинный темнозеленый кафтан из тонкого сукна и темномалиновые сафьяновые сапоги пожилой, но все еще очень крепкий на вид арзамасский воевода Доможиров Борис Иванович.
Старинный дворянский род Доможировых происходил из древнего Новгорода, который им пришлось покинуть сразу же после того, как их родной город был присоединен к Московскому государству. Они были переведены к новому месту своей службы и проживания – в расположенный возле места слияния Волги и Оки основной центр здешнего региона – Нижний Новгород.
В новом городе Доможировы довольно быстро вошли в тройку самых богатых бояр-помещиков Нижегородчины, и, в первую очередь, сделал это Борис Иванович.
Это был весьма активный и заметный государственный служащий эпохи правления Ивана Грозного и его сына Федора Ивановича. Лет тридцать назад он даже направлялся послом Русского царства в Ногайскую орду и выполнил указанное поручение с таким блеском, что ему на нижегородской земле была пожалована вотчина размером в 600 четей.
После этого Доможиров успешно "воеводствовал" в городах Орлов на Вятке и Тара на Иртыше, служил на различных важных должностях в Москве и руководил такими непростыми в политическом плане городами, как Астрахань и Касимов… опять-таки, в качестве обычного уездного воеводы.
Одним словом, Борис Иванович Доможиров был крайне опытный и хитроумный "служака" и руководитель.
Он весьма прохладно встретил столичного особого обыщика и, быстро пробежав глазами по тексту переданного ему Григорием царского указа о направлении их с Петром в Арзамас для поимки и уничтожения шайки татей, возглавляемой душегубом, называющим себя известным на Руси предводителем разбойного люда Хлопком Косолапом, казненным около трех лет назад, небрежно отбросил царскую грамоту обратно Бекетову на край своего стола.
– То все – происки нашего губного старосты Лопатина Третьяка Дмитриевича. Не сидится старику. Взял, да и написал бумагу в ваш Разбойный приказ о "злокознях" местного Хлопка-самозванца. Да, таких шаек, как у самозваного Хлопка, в нашей округе не счесть. И что теперича – по каждой в Москву докладывать? – недовольно поморщился воевода.
В этот момент в дверь палаты, где находились Доможиров и Бекетов, сначала вежливо постучал, а затем, через короткую паузу, и осторожно вошел рослый воеводский холоп с маленьким подносом, на котором стояли небольшой винный кувшинчик и две пустые чарки.
– А… Захарка… Ставь на стол свое угощение и поди прочь отсюда! – угрюмо скомандовал воевода холопу.
Тот вздрогнул и тотчас постарался исполнить его указание настолько быстро, насколько это было возможно.
– Угощайся, особый обыщик! С прибытием! – собственноручно разлив хлебное вино по чаркам, неожиданно мягко обратился к Григорию Борис Иванович.
– Благодарствую! – не посмел ответить ему отказом Бекетов и, аккуратно взяв в руку ближайшую к нему чарку с хлебным вином, осушил ее одновременно с Доможировым, одним глотком выпившим из своей этот горячительный напиток.
– Значит так, Григорий Кузьмич! Все дела – завтра! Зайдешь с утречка… тогда и обсудим их вместе с Лопатиным. А ныне иди-ка со своим помощником отдыхать опосля долгой дороги! Ах, да… Вам же надобно жилье для постоя… Ну, что же… решим нынче и сей вопрос, – слегка задумавшись, глубокомысленно заявил воевода.
– Благодарствую, Борис Иванович, но у нас уже есть один двор на примете. Дьяк Разбойного приказа Корсаков поручил нам остановиться на постой у проживающей в арзамасской крепости его крестницы Анастасии, вдовы здешнего пушкарского пятидесятника Панова, – вежливо пояснил Григорий.
– Ну, и ладно, – облегченно вымолвил Доможиров, которому, несмотря на его предыдущие слова, видимо, не очень хотелось лишний раз напрягаться и вызывать кого-либо из своих подчиненных для поисков жилья столичным гостям.
На том они и расстались.
Вышедший из избы Бекетов и ожидавший его все это время на крыльце Ларин, держа коней на поводу, быстро покинули Малый острог и, ориентируясь на недавние подсказки Тишани, вскоре, без видимого труда, нашли двор Анастасии Пановой.
Двор ее был видный и крепкий, с соединенным с домом общей крышей теплым хлевом, в котором у вдовы находились корова, свинья с поросятами, коза и четыре овцы, новой мыльней, большим огородом и отделяющей домашние постройки от забора с воротами и калиткой открытой лужайкой с мирно передвигающимися по ней многочисленными курами, на которых равнодушно смотрел полусонными глазами распластавшийся на солнышке возле своей конуры большой старый пес.
Да, и сам вдовий дом оказался не какой-нибудь захудалой избенкой, а высокой и прочной избой-пятистенкой с аккуратно пристроенными к ней просторными сенями.
В прорези стены, разделяющей между собой две половины дома, стояла нагревающая одной своей частью, а точнее, слегка выступающим во вторую горницу торцом, дальнее помещение избы, а другой, с горнилом и лежаком – ближнюю от сеней горницу, огромная русская печь, на которой спокойно могли расположиться на ночь сразу два взрослых человека среднего телосложения.
Рядом с ней был устроен приличных размеров голбец (дощатый лежак рядом с печью, но чуть пониже лежака печи – прим. автора), в котором, вполне ожидаемо, хранилась домашняя утварь и располагался вход в подпол.
Напротив печи в главной горнице находился красный угол с образами и стоял большой обеденный стол.
Вдоль стен, поверху, на уровне человеческого роста, были обустроены специальные полки для хранения посуды, а понизу располагались громоздкий сундук и широкие лавки, на которых можно было не только сидеть, но и спать; ну, и само собой, что днем, особенно в зимнее время, на них могли играть дети, а по праздникам – усаживаться гости за столом.
Ближайший же от входа угол возле печи был традиционно отделен цветастой занавеской: там, видимо, вдова готовила пищу и хранила съестные припасы первой необходимости.
Вторая горница выглядела примерно также, если не считать, что в ней отсутствовал женский "печной" угол и были гораздо меньших размеров красный угол с иконами и вещевой сундук.
Недостаток во вдовьем доме, по мнению Бекетова, быстрым взглядом оценившего обстановку при входе в данное жилое помещение, был лишь один – отсутствие отдельного выхода во двор из второй горницы и, как следствие – проходное состояние главной горницы.
На голос Ларина, принявшегося громко звать хозяйку с крыльца ее дома, из огорода, вместе с двумя детьми – шестилетним сынишкой и трехлетней дочуркой – вышла и не спеша подошла к ним удивленно рассматривавшая их своими красивыми карими глазами Анастасия Панова, и Бекетов невольно задержал на ней свой цепкий взгляд.
Была она, как говорится, и ладна, и румяна, и, судя по всему, очень аккуратна, так как, несмотря на работу в огороде, ее украшенный незатейливой вышивкой домашний сарафан с бежевым передником и такого же цвета простенький кокошник были на удивление очень чисты.
На вид пушкарской вдове, буквально, налитой бабьей силой, было не более двадцати пяти лет.
Григорий с Петром вежливо поздоровались с ней.
– Здравствуйте, – также вежливо сказала она им в ответ и тут же ожидающе посмотрела на Бекетова, безошибочно приняв его за старшего из двух нежданных гостей.
– Ты – Анастасия? Вдова пушкарского пятидесятника Панова? – негромко спросил у нее Григорий.
– Да… – настороженно ответила вдова.
– Тогда… то – тебе! От твоего крестного – Клементия Григорьевича Корсакова, – Бекетов бережно протянул ей корсаковские мешочек с деньгами и записку.
– Благодарствую, – немного растерявшись, поблагодарила его Анастасия, скромно приняв мешочек в одну руку, а записку – в другую.
"Добрая баба, видать! Хозяйственная и грамотная. А коли грамоте обучена – значит, из не худородной семьи родом. Хотя, о чем я… То и так понятно, раз крестным у нее сам главный "Разбойный дьяк" является", – с невольной симпатией подумал о ней Григорий, быстро оценив располагающий к себе облик молодой вдовы и жавшихся к ней ее маленьких ухоженных детишек, которым он, незаметно для хозяйки и своего помощника, тихонько улыбнулся и подмигнул правым глазом.
– Так вам постой надобен на долгое время? – не скрывая радости, уточнила Панова, прочитав написанный в записке текст и раскрыв переданный ей мешочек. – С превеликим удовольствием пущу вас на столько – на сколько вам надобно. А… то – не ошибка, что каждый месяц вы будете платить мне такие деньги?
Задавая этот вопрос, она показала Бекетову с Лариным цифры денежной суммы, прописанные Корсаковым.
Хитрый дьяк написал там, что присланные им люди будут платить ей за постой по двадцать копеек в месяц за обоих, что составляло ровно половину от среднемесячного дохода городского ремесленника. И это, при том, что курица, в тот год, стоила на торге одну копейку, корова – восемьдесят копеек, мерин – один рубль, а хороший конь – от четырех до пяти рублей.
– Не ошибка! Но токмо то – вместе со стиркой и глажкой наших вещей и готовкой для нас обеда. На покупку же съестных припасов и всего остального, надобного для исполнения указанных мной дел, мы будем давать тебе деньги отдельно. Согласна? – спросил Григорий, который все расходы за постой его и Петра, кроме покупки продуктов, по умолчанию, взял на себя одного, оставляя, тем самым, в "карманных закромах" на грядущий год лишь деньги на личное питание и овес для своего коня.
– Согласна! – с радостно светящимися глазами ответила ему Анастасия.
– Тогда… где мы можем разместиться?
– Во второй половине дома.
– А ничего, что мы ходить будем "через вас"?
– Да, ради Бога! Я с детьми – за занавеской на печке сплю. Так что не помешаете, даже ежели поздно придете.
– Вот, и добро!
– Раз так – что стоите?! Заходите в дом и размещайтесь! А у меня и щи недавно поспели. Так что – прошу к столу!
Пообедав на скорую руку и разместив своих коней в двух пустующих стойлах в хлеву, Бекетов и Ларин затопили, с разрешения хозяйки, печь в ее мыльне и с огромным наслаждением вымылись, смыв с себя всю дорожную пыль последних дней.
Какое же это было удовольствие видеть липовой полок, скобленные добела полы и свисающие с потолка предбанника духовитые венички, ходить по теплым и влажным струганным досочкам и, сидя на лавке в парной, чувствовать дышащий прямо на тело жар от раскаленной каменки!
Григорий с Петром раза по три сменили парную на прохладный предбанник, прежде чем, одев предусмотрительно купленное в Муроме чистое исподнее, покинули жаркую хозяйскую мыльню.
Вечером, за легким ужином, они узнали от неожиданно разоткровенничавшейся Анастасии о том, что за прошедшее двухлетие, чтобы рассчитаться с долгами мужа и содержать детишек, ей пришлось продать двух их лошадей, и что ее покойный муж, очень уважаемый среди служилого люда Арзамаса, пушкарский пятидесятник Панов, два года тому назад направленный по указу царя Бориса Годунова, в составе крупного арзамасского отряда, на войну против только объявившегося, тогда, на Руси и объявленного, с ходу, самозванцем "царевича Димитрия", погиб "смертью храбрых" в неравном бою прошлой весной.
А всего же тогда, с ее слов, на войну из Арзамаса было направлено более трехсот арзамасских жителей, включенных, впоследствии, в полк "правой руки", и двести человек от нижегородской и арзамасской мордвы и бортников – в полк "левой руки". Кроме них, в том русском войске был еще и отдельный, в триста с лишним воинов, отряд алатырских, цненских и арзамасских татар под командованием сына боярского из Арзамаса по фамилии "Мотовилов" и прозвищу "Смирной".
Бекетов с Лариным, подивившись немалым познаниям вдовы в ратном деле арзамасцев, лишь незаметно переглянулись между собой, когда та со скорбным видом сообщила им, что ее муж, сам того не зная, погиб в неправом бою против войска несправедливо прозванным самозванцем нынешнего "царя Димитрия Иоанновича"…
"Эх, баба"… – подумал Григорий. – "Каким же откровением будет для тебя и многих других арзамасских вдов скорое сообщение о том, что "царь Димитрий", и вправду, был самозванцем, означающее, что ваши мужья погибли не зря, а за правое дело"…
Впрочем, веки у всех троих тихо беседующих за столом в главной горнице лиц, при спящих за занавеской детишках, стали весьма скоро слипаться, и Бекетов с Лариным ушли спать в свою половину хозяйской избы, на долгое время ставшей им теперь родным домом.
Утром следующего дня, наконец-то, одевший купленную в Муроме обнову особый обыщик и временно, для большей представительности, надевший на себя его старую "корсаковскую" одежду подьячий, напоив и оставив коней в стойлах с кормушками, полными овса, плотно позавтракали и неспешно направились пешком в Малый острог к воеводе Доможирову.
На подходе к воеводской избе они невольно обратили внимание на какую-то необычную суету на территории этого острога и присутствие в нем явно излишнего, на их взгляд, количества служилого люда.
Больше всего вызвали у них любопытство растерянно-озабоченные лица местных стрельцов, скромно одетых в неброские серые кафтаны и такого же цвета остроконечные стрелецкие шапки, отороченные овчиной.
Однако Бекетов, немного озадачившись увиденным зрелищем, не стал делать по этому поводу поспешных выводов и решительно, без какого-либо противодействия со стороны доможировской охраны при объявлении им своего имени, вошел в сени воеводского дома.
Ларин же, как и сутками ранее, остался ждать его у крыльца.
В палате у воеводы, в это время, уже вовсю шло явно незапланированное совещание местного "военно-гражданского совета", на котором, помимо самого Доможирова, присутствовали осадный голова, засечный голова, голова мордовских и бортничных дел, стрелецкий сотник, казачий атаман, городовой дьяк, городовой приказчик и губной староста.
Борис Иванович, "в двух словах" представив Бекетова присутствующим и поименно назвав ему последних, а также кратко озвучив цель приезда московских "гостей" в Арзамас, без обиняков предложил особому обыщику присесть рядом со всеми за большой воеводский стол и принять участие, если это потребуется, в обсуждении сложившейся на утро текущего дня непростой ситуации в крепости.
Чтобы не возвращаться потом к вопросу, по которому прибыл в их город Григорий, губной староста Лопатин, по предложению воеводы, наскоро посвятил того в дела, связанные с борьбой против шайки Хлопка-самозванца, и обратил внимание всех присутствующих на то, что этот разбойный атаман очень жесток, дерзок и никогда не оставляет в живых свидетелей его преступлений.
В завершение данной темы Доможиров дал команду казачьему атаману Терехову подобрать для ликвидации шайки Хлопка-самозванца с десяток своих казаков среднего возраста и хорошего уровня боевой подготовки и незамедлительно выделять их в личное распоряжение особого обыщика Бекетова по каждой просьбе последнего.
Затем воевода вернулся к обсуждаемой до прихода Григория проблеме и демонстративно довел до того всю имеющуюся, на данный момент, информацию о свершившемся прошедшей ночью в арзамасской крепости загадочном убийстве.
Оказывается, несколько часов назад, в темное время суток, в помещении одной из двух башен Малого острога, а точнее, в ближней от места их совещания Воеводской башне (располагавшейся до пожара, уничтожившего большую часть крепости в 1726 году, и последующего слома ее остатков, примерно, на месте исходного пересечения сразу двух нынешних арзамасских улиц: Владимирского и Верхней Набережной – прим. автора), один из двух стрельцов, находившихся в ночном карауле, был убит проникающим ударом острого клинка.
Его напарника по караулу, с исходящим от него сильным запахом хлебного вина, нашли в бессознательном состоянии рядом с мертвым телом сослуживца со своей саблей в правой руке, обнаженный клинок которой был, буквально, весь измаран кровью убитого.
Приведенный в чувство караульный стрелец в убийстве, пока, не сознался и никаких внятных объяснений по происшествию дать не смог.
– Ну, сознаться-то, он сознается! Куда денется… Дыба, ведь, и у нас имеется. Да, вот токмо, наш стрелецкий сотник Старосельский, неплохо зная обоих стрельцов, божится, что не мог Краснов убить своего товарища… Загадка получается, особый обыщик! А загадки такого рода, полагаю, по твоей части будут, Григорий Кузьмич. Али я ошибаюсь? – хитро сузил глаза Доможиров, взглянув в упор на Бекетова.
– По моей, – не стал отнекиваться Григорий, прекрасно понимая, что именно сейчас решается вопрос о серьезности восприятия его личности руководством арзамасского служилого люда.
– Ну, и добро! Старосельский, присоединяйся к особому обыщику и его помощнику! И – с Богом! Можете нынче же начинать сыск по случившемуся душегубству, но помните: ежели не разгадаете сию загадку за сутки, то завтра утром мы с губным старостой отправим Краснова на дыбу, на которой он, без всякого на то сомнения, признает свою вину в гибели товарища. Я, как воевода, не могу позволить, дабы в моей крепости возникло какое-либо волнение среди ее нынешних жильцов. А недовольство, из-за затягивания решения о наказании виновного в душегубстве, непременно может возникнуть, ибо у обоих стрельцов – и у живого, и у погибшего – тут семьи имеются… На сем – все! Сбор окончен! Всем, до завтрашнего утра, разойтись! И… Старосельцев, прими, наконец, меры, дабы по Малому острогу не бродили не состоящие ныне в караульной службе служилые! – грозно скомандовал присутствующим арзамасский воевода.
Все тут же тихо встали из-за стола и безропотно покинули воеводскую избу.
Авторитет Доможирова был в Арзамасе, что называется, "на недосягаемой высоте".
Это сразу, еще днем ранее, понял обладающий аналитическим складом ума Бекетов.
Конечно, он, как столичный особый обыщик, мог не следовать последним указаниям воеводы и действовать в сложившейся ситуации по своему усмотрению, поскольку его нынешняя должность позволяла ему не подчиняться приказам местной власти, но Григорию не хотелось, "с порога", лезть на рожон и на каждом шагу кричать о своих особых полномочиях, тем более сейчас, когда хитроумный Доможиров обставил нынешнее ему поручение так грамотно, что не подкопаешься.
На проведение собственного дознания по случившемуся душегубству Григорий сам дал свое согласие, а суточный срок на проведение сыска воевода прочно увязал с пыточной дыбой для подозреваемого стрельца и ненужным никому волнением городского населения.
"Хитер! Ох, хитер Борис Иванович!" – с невольным уважением подумал о Доможирове Бекетов.
У крыльца воеводской избы он вкратце рассказал Ларину о поставленной ныне перед ними задаче и уже вместе с ним направился в сторону Старосельского, успешно разогнавшего, к этому времени, с территории Малого острога всех "лишних" стрельцов и прочих, не задействованных на службе, местных служилых людишек.
– Ну что, сотник, потрудимся?! Я, так понимаю, ты, действительно, заинтересован в поимке настоящего душегуба, коли так уверен в невиновности своего ратника? – напрямую обратился к стрелецкому голове Григорий, еще совсем недавно сам находившийся в "шкуре" последнего, только на более ответственном "кремлевском" уровне в Москве.
Услышав адресованный непосредственно к нему вопрос, Старосельский тут же инстинктивно почувствовал родственную ментальность в голосе особого обыщика и невольно раскрепостился.
– Да. В Савелии я уверен, как в самом себе. Не мог он убить Пантелея! – уверенно заявил арзамасский сотник.
– Ну, и добро! Тогда, давай, по порядку! Я и мой помощник Петр – люди тут новые и ничего, пока, ни об Арзамасе, ни о его жильцах, не знающие. Поэтому, будь добр, сотник, проведи нас, для начала, поверх городской стены и расскажи вкратце то, что сам знаешь о крепости и ее гарнизоне. Уйдет у нас на то дело не более часа. Ну, а опосля, спустившись вниз, опросим твоего Савелия и осмотрим тело убитого с местом, где совершилось сие душегубство, – разумно предложил Старосельскому Бекетов.
Тот, не споря, согласился.
Втроем, за разговором, они быстро подошли ко второй из двух башен Малого острога – Часовой башне (располагавшейся до пожара, уничтожившего большую часть крепости в 1726 году, и последующего слома ее остатков, примерно, на месте новой Смотровой площадки, находящейся в юго-западном углу Соборной площади Арзамаса – прим. автора), являвшейся самым высоким крепостным сооружением в городе и имевшей, как пояснил Григорию с Петром Старосельский, помимо основной функции главного наблюдательного пункта крепости, еще одно, куда менее привлекательное, прикладное предназначение.
В данной башне располагалось местное пыточное помещение и небольшой, рассчитанный на двух-трех человек, тюремный застенок, к которому, впрочем, гораздо больше подходило слово "застеночек", если можно было бы в такой мягкой форме назвать это страшное для любого города место.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».