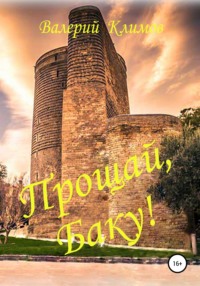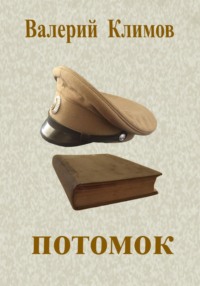Полная версия
Арзамас порубежный
– Как мне величать-то тебя, дьяк? – осторожно поинтересовался у него Григорий.
– Ежели согласишься на мое предложение, то величать меня будешь Клементием Григорьевичем Корсаковым, – мягко ответил ему многоопытный дьяк.
– А куда я денусь, Клементий Григорьевич? Гибнуть просто так, ни за что, мне вовсе не хочется… – более-менее успокоившись, произнес Бекетов. – Согласен на переход в Разбойный приказ и службу особым обыщиком.
– Вот и славно, Григорий. Не сомневался в твоем здравом уме.
– Токмо еще один вопрос есть у меня, Клементий Григорьевич. За что такая милость ко мне с твоей стороны?
– Да, есть за что… Более трех лет тому назад, когда я, будучи простым подьячим другого приказа, проходил как-то вечером по окраине московского посада и попал в смертельно опасное для меня положение, именно ты, Григорий, случайно оказавшись в тех местах, первым пришел ко мне на помощь и спас меня от неминуемой гибели от рук лихих людей. А я всегда помню добро. Потому-то и плачу тебе нынче тем же… К тому же, тебе крупно повезло, что ты, находясь без сознания, был доставлен именно сюда – в Разбойный приказ, а не в Земский, ведающий теми же делами, что и мы, но токмо внутри самой Москвы. Иначе бы за твою жизнь никто не дал ныне "и ломаного гроша".
– Ну, что же… Благодарствую, Клементий Григорьевич, за то, что добро помнишь! А я-то тебя, коли по чести, так и не вспомнил. Хотя случай такой со мной на посаде, и вправду был. Спас от забредших татей одного подьячего, но лица его не запомнил. А это, вон, оказывается, ты был… Чудеса твои, Господи, да и только! Но как же ты меня из сей истории выпутаешь, Клементий Григорьевич, коли меня, там, астафьевские стрельцы да сыны боярские с холопами княжескими видели?
– А стрельцы, все как один, уже подтвердили и то, что команду на стрельбу по толпе из пищалей им дал лично их сотник, и то, что, когда ворвавшиеся в Кремль вооруженные люди оттеснили их от лежавшего на земле самозванца и плотной толпой окружили того вместе со стоящими возле него Астафьевым и чужим сотником, фамилию которого никто из них не знает, они ничего путного уже не видели… Ну, а от людей князя Василия Шуйского, принесших вас в Разбойный приказ, удалось узнать лишь то, что опознать в двух окровавленных сотниках того, кто из них давал команду стрелять по толпе, а кто бросался с саблей на Валуева, они нынче не могут, ибо доставленные ими сюда сотники, на удивление, похожи друг на друга и бородатыми лицами, и телосложением, и ростом… да, и окровавлены они оба так, что кажутся им братьями-близнецами…
Тут Корсаков принял наигранно-изумленный вид:
– Так что тебе, Григорий, и тут сильно повезло! Всего два свидетеля супротив тебя ныне – твой приятель Астафьев, да твой враг Валуев, который, наверняка, твою личность запомнил. Ну… с Астафьевым-то я вопрос нынче решу, а вот, от Валуева тебе ныне надобно будет как можно дольше держаться подальше. И твоя служба в порубежном Арзамасе – нынче тебе, как никогда, кстати. А там, глядишь, али твоя личность в валуевской памяти сотрется… али с ним какая оказия случится…
– Али со мной, – невесело продолжил мысль приказного дьяка Бекетов.
– Все под Богом ходим! – глубокомысленно изрек Корсаков. – Но прежде… пообещай мне, Григорий, что выполнишь одну мою личную просьбу! Она – несложная. Надобно передать ныне проживающей в Арзамасе моей крестнице Анастасии Пановой, вот уж с год, как вдове местного пушкарского пятидесятника, оставшейся одной с двумя малыми детьми на руках без каких-либо средств на жизнь, небольшой мешочек с деньгами от меня. И проживать надобно будет обязательно у нее дома, дабы деньги за постой тоже шли ей и ее детям, но, конечно, в случае, ежели против сего не будет сама Анастасия. А деньги для них точно лишними не окажутся. Ну, и… поглядишь там, на месте… не надобна ли ей защита какая от кого-нибудь. Потребуется – защити и на имя мое сошлись! Времена нынче суровые наступают…
Сделав небольшую паузу, дьяк продолжил:
– И еще… ибо ты в обыщицких делах мало чего ведаешь… посылаю с тобой на все время проживания в Арзамасе смышленого и верного мне человека из нашего приказа – верстанного подьячего Петра Ларина, который, согласно Уставу Разбойного приказа, может не токмо надобные бумаги при ведении дознания и суда писать, но и в помощь тебе поимкой татей заниматься. Ну, как? Выполнишь с Лариным мою просьбу по крестнице?
– Не изволь беспокоиться, Клементий Григорьевич. Выполним все, как надобно! – нисколько не лукавя, пообещал ему Григорий.
Корсаков принял за должное его искреннее обещание и моментально написал при нем соответствующую короткую записку своей крестнице о деньгах для нее и оплачиваемом постое для Бекетова с Лариным.
Затем дьяк сжег в печи бумагу с ранее написанными на ней показаниями бекетовского приятеля и тут же написал на чистом бумажном листе от имени Астафьева новые "признательные" показания того о том, что два дня назад в Кремле это лично он, как начальник караула, сначала дал указание стрельцам стрелять по людям, пришедшим разоблачить самозванца, а потом, с вынутой из ножен саблей, до последнего защищал псевдоцаря от людей князя Василия Шуйского и пытался напасть на Валуева, а также о том, что случайно оказавшегося в этот момент рядом с ним "ни во что не вмешивавшегося человека в кафтане стрелецкого сотника, назвавшегося Язевым", он до этого не знал и никогда не видел, а все, что этот человек, якобы, успел ему сказать про себя, так только то, что он – Язев – с этого дня назначен новым сотником в соседней сотне их Стремянного полка.
После этого Корсаков подошел со вновь написанной им бумагой и чернильницей вплотную к находящемуся без сознания на дыбе Федору и, аккуратно окунув большой палец правой руки последнего в чернильницу, осторожно приложил его к принесенной им бумаге под так называемыми новыми "признательными" показаниями Астафьева.
Далее приказный дьяк, приоткрыв одну из двух дверей пыточного помещения, громким голосом вызвал в Пытошную местного палача, который к неописуемому ужасу Бекетова, по еле заметному знаку Корсакова, сначала привычным движением хладнокровно задушил Федора каким-то объемным и мягким грязным предметом, отдаленно напоминающим подушку, а затем снял последнего с дыбы и, забросив его себе на плечо, направился в "Покойницкую".
– Постой! – неожиданно остановил палача дьяк. – Захвати с собой его сапоги и кафтан. Кафтан надень на него в Покойницкой и предупреди сторожей, дабы они не снимали его даже тогда, когда будут хоронить тело на тюремном погосте. А сапоги можешь забрать себе. Иди!
Палач молча кивнул головой и свободной рукой захватил, по пути, почти новые стрелецкие сапоги Астафьева и его изрядно порванный окровавленный кафтан сотника, сиротливо лежавшие на небольшой скамье у выхода.
Тем временем Корсаков достал из неприметного тайника в столе две последние царские указные грамоты с печатями, написанные рукой самого дьяка и подписанные лично самозванцем за день до его смерти, которые не были зарегистрированы в приказной учетной книге, и аккуратно дописал в одну из них, в последнюю строку написанного там текста, сословную принадлежность и личные данные сына боярского Бекетова Григория и подьячего Ларина Петра, а в другую, в качестве дополнительного абзаца после написанного там текста – указание о переводе в день подписания настоящей грамоты, то есть за сутки до смерти самозванца, сына боярского Язева Арсения с должности особого обыщика Разбойного приказа на должность сотника в Стремянном полку Стрелецкого приказа, а сына боярского Бекетова Григория с должности сотника того же полка на должность особого обыщика Разбойного приказа с соответствующими их новым должностям жалованиями и полномочиями.
Затем приказный дьяк зачитал Григорию полный текст обоих только что измененных им царских указов, в одном из которых говорилось об обмене должностями Бекетова и Язева, а в другом – о немедленной отправке Разбойным приказом в Арзамас сына боярского Бекетова Григория Кузьмича и подьячего Ларина Петра с поручением уничтожить дерзко действующую в Арзамасском уезде разбойную шайку с ее опасным главарем, называющим себя спасшимся от царского правосудия Хлопком Косолапом.
После этого Корсаков внес все данные с этих указов в учетную книгу и зарегистрировал их там "задним числом", под соответствующими ему номерами.
Бекетову и тут повезло: в данной книге последний царский указ для Разбойного приказа регистрировался пятью днями ранее.
Далее дьяк быстро переписал царский указ с пунктом об обмене должностями Бекетова и Язева на отдельный лист бумаги и, изготовив, таким образом, его копию со своей подписью и печатью Разбойного приказа, отправил ее в Стрелецкий приказ с вызванным им из соседнего помещения самым молодым по возрасту тюремным сторожем, с распоряжением последнему "принести стрелецкому голове от его имени устные извинения за нечаянную задержку".
На вопрос подавленного смертью приятеля Бекетова о судьбе неизвестного ему Язева дьяк коротко пояснил, что тому не повезло из-за его чрезмерной дружбы с чужеземцами.
Дело в том, что до смены власти в Кремле Корсаков планировал именно его послать с Лариным в Арзамас, но Арсений вместе со своими товарищами-иноземцами, в день переворота, случайно попал в посаде под руку бунтующей пьяной толпе, которая, не став разбираться, забила до смерти и его самого, и его иноземных друзей.
– Так что Язев, чье лицо превращено бунтарями в такое месиво, что и родная мать его не узнает, лежит нынче в Покойницкой в одном рядку с твоим приятелем – новопреставленным Астафьевым… – посчитал нужным добавить дьяк.– Ну, все… хватит толковать о покойниках! Пора и о деле вспомнить. Молви-ка мне, Григорий, а где нынче твой конь и все принадлежащее тебе оружие?
– Ну… саблю мою, от батюшки доставшуюся, судя по всему, отняли те, кто меня избил и притащил в Разбойный приказ. А вот мой конь, доспех полный зерцальный, протазан и саадак ("доспех полный зерцальный" – доспех, состоящий из круглых больших пластин на груди и спине, соединенных вокруг них и между собой множеством других более мелких пластин в единый защитный комплект; "протазан" – боевое копье определенного типа; "саадак" — комплект, состоящий из лука в налуче и стрел в колчане – прим. автора) находятся у одного из моих друзей не из стрелецкой слободы, у которого я, опосля моего последнего караула, аккурат накануне дня убиения самозванца, знатно перебрав хлебного вина по случаю его именин, остался почивать. От него же, утром следующего дня, я отправился пешим, с одной саблей на кушаке, к Астафьеву в Кремль. Ну, а казенная пищаль ручная, что за мной записана, как и полагается, опосля караула, в полку оставлена, – подробно ответил Бекетов.
– Вот, и славно, – удовлетворенно произнес Корсаков. – А теперича, сбрось-ка с себя кафтан свой сотничий, да побыстрее!
Григорий, не задумываясь, подчинился и поспешно снял свой окровавленный разорванный кафтан стрелецкого сотника.
Дьяк, тут же забрав его у него, самолично замотал "государево служилое платье" в темный узел и пояснил, что позднее он сам наденет его в Покойницкой на труп Язева, поскольку, наверняка, уже утром следующего дня к нему сюда придут с проверкой проведения Разбойным приказом дознания по двум стрелецким сотникам или сам Валуев с товарищами, или еще кто-нибудь из их доверенных лиц.
После этого Корсаков заставил Бекетова тщательно смыть в бочке с водой с головы и лица все запекшиеся следы крови и выдал ему заранее припасенные им старенькие, но еще вполне приличные на вид, кафтан и шапку служилого покроя, применяемого, как правило, в шитье одежды, носимой детьми боярскими из провинциальной поместной конницы.
Дождавшись, когда Григорий наденет эти вещи на себя, дьяк передал ему записку для своей крестницы о будущем постое в ее доме Бекетова и Ларина и пересылаемых с ними для нее деньгах и небольшой мешочек с подаренными ей монетами.
Затем он терпеливо подождал, пока Григорий торопливо рассует переданные ему предметы по внутренним карманам подаренного кафтана, и торжественно, в знак своей благодарности за согласие выполнить его просьбу насчет Анастасии, вручил Бекетову "негласно позаимствованные" последовавшими "из любопытства" в день переворота в царские палаты его подчиненными у одного из убитых "шуйсковцами" немецких рейтар саблю с длинным и довольно узким клинком малой кривизны, удобной рукоятью и красивой гардой в виде трех витых металлических дужек, вместе с прочными ножнами и поясной портупеей, и изящный европейский "пистоль" (пистолет с опущенной вниз изогнутой рукояткой, образующей с осью длинного ствола угол в 50—60 градусов и заканчивающейся массивным шаром – прим. автора) в специальном, обрамленном бахромой и украшенном витиеватыми монограммами, кожаном чехле "ольстре", со всеми прилагающимися к нему принадлежностями: берендейкой, зарядцами, пороховницей и отдельной кожаной сумкой с запасами пуль, сала, пыжей, фитилей и предметов для чистки оружия.
Бекетов восхищенно оглядел подарки дьяка и искренне поблагодарил его за них.
Невозмутимо выслушав благодарные слова Григория в свой адрес, Корсаков дополнительно передал ему, под расписку в еще одной учетной книге, отдельный мешочек с годовым жалованием особого обыщика, выдаваемого, как он особо подчеркнул, в виде исключения, сразу на год вперед – то есть, на максимальный срок исполнения царского поручения по поимке и уничтожению опасной шайки разбойников-душегубов, и оригинал изготовленного им только что царского указа псевдоцаря Дмитрия о направлении Бекетова и Ларина в Арзамас.
После этого дьяк посоветовал ему не распространяться в Арзамасе о любых деталях своей прежней жизни, ссылаясь на их секретность, и ничего не говорить там о только что свершившемся перевороте в Кремле, поддерживая легенду о том, что он, якобы, выехал из Москвы за день до бунта и убийства самозванца. Ну, а потом, по прибытию, спустя какое-то время, в Арзамас официального столичного гонца с сообщением о произошедшей смене власти в Русском царстве, Григорию останется всего лишь изобразить в присутствии местных жителей крайнее изумление от услышанного.
Подтверждающую поручение о ликвидации шайки грамоту за подписью нового царя Василия Шуйского Корсаков обещал прислать Бекетову в Арзамас с вышеуказанным гонцом, которому будет велено передать ее ему лично в руки, в случае, если, к этому времени, его самого не уберут из Разбойного приказа тем или иным способом…
Разобравшись с Григорием и приоткрыв дверь, в которую сюда ранее притащили Бекетова и вынесли Астафьева, дьяк громко позвал по имени своего подчиненного, коим оказался будущий напарник новоявленного особого обыщика – двадцатидвухлетний подьячий Разбойного приказа Петр Ларин – невысокий, худощавый, светловолосый и безбородый молодой человек, с тонкими чертами лица, видимо, заранее вызванный Корсаковым из соответствующего служебного помещения и все это время ожидавший своего вызова к нему в прихожей пыточного помещения.
Клементий Григорьевич наскоро познакомил Григория с Петром и сообщил последнему о его беспрекословном, с этого дня, подчинении назначенному вместо Язева особым обыщиком Разбойного приказа сыну боярскому Григорию Кузьмичу Бекетову и их совместной немедленной отправке в порубежный Арзамас.
Ларин внешне вполне спокойно воспринял возникшие изменения в составе их маленькой компании, ныне отправляемой на юго-восточный рубеж Московского государства, и лишь быстрым внимательным взглядом постарался заранее оценить своего будущего руководителя.
Конечно, вид утомленного Бекетова со спутавшимися мокрыми волосами и явно не новым одеянием особо его не впечатлил, но, как человек, прослуживший в приказе более одного года и успевший набраться, в связи с этим, определенного житейского и профессионального опыта, Петр предусмотрительно не стал делать поспешных выводов об этом человеке.
Тем временем приказный дьяк снабдил и его, под расписку в учетной книге, выданным, в виде исключения, сразу на год вперед, отдельным мешочком с годовым жалованием подьячего и весьма скрупулезным наставлением о полном молчании насчет свершившегося переворота в Москве, аналогичным тому, что было дано ранее Григорию.
После этого Корсаков настоятельно рекомендовал им не заезжать перед отъездом из Москвы во двор Бекетова, расположенный в слободе стремянных стрельцов, коих, к слову, насчитывалось уже, тогда, две тысячи человек, занимавшей территорию, протянувшуюся по правому берегу реки Неглинной от Моисеевского монастыря до Знаменки, и пообещал Григорию незамедлительно дать указание своим людям заколотить досками все двери и окна его московского дома и, предупредив соседей о длительной служебной поездке бывшего сотника в далекие края, проконтролировать списание с него закрепленной за ним в Стремянном полку Стрелецкого приказа казенной пищали.
Затем приказный дьяк быстро вывел новоявленных "порубежников" по скрытому за второй, противоположной входу, дверью Пытошной узкому коридору к ведущей "на волю" неприметной дверце во внешней каменной стене отводной башенки-стрельницы, которую изнутри охраняли сразу трое тюремных сторожей, и, наскоро перекрестив, выпроводил их на стремительно погружавшуюся в сумерки городскую улицу.
Далее, в соответствии с его указаниями, они должны были как можно незаметней и быстрей добраться до двора друга Бекетова, в котором Григорий оставил ранее коня и свое вооружение, предварительно забрав, по пути туда, из дома еще одного "человека Корсакова", адрес которого знал Петр, уже ожидавшую последнего в здешнем стойле верховую лошадь и кое-какую провизию на первое время их путешествия, и переночевать там, не привлекая излишнего внимания соседей.
Ранним же утром следующих суток новоявленным путешественникам требовалось спешно покинуть Москву и взять курс на Владимир, при приближении к которому им следовало в него не заезжать, а, объехав околицей, начать свое движение к Мурому, где по еще одному указанному дьяком адресу они могли, для короткой передышки и пополнения запасов провизии, остановиться на сутки в доме очередного верного человека из многочисленного списка "людей Корсакова".
Ну, а после муромского отдыха и последующей за ним переправы через Оку Бекетову и Ларину надлежало направиться прямиком в Арзамас.
При этом, в целях их собственной безопасности, им категорически не советовалось делать какие-либо остановки и, уж тем более, организовывать ночлеги в малолюдных населенных пунктах на всем маршруте чрезвычайно опасного путешествия…
Тем временем выпровоженные из мрачной Пытошной на улицу новоявленные "порубежники", благополучно совершив, по пути ко двору бекетовского друга, поочередные заходы к "человеку Корсакова" и родителям Петра, как и задумывалось, заночевали в доме вышеуказанного приятеля бывшего сотника.
А с рассветом следующего дня, в полном соответствии с указаниями Клементия Григорьевича, вооруженный пистолем, саблей, саадаком и протазаном Бекетов, верхом на своем вороном коне и в надетом поверх подаренного ему кафтана доспехе, и непритязательно одетый Ларин, на довольно-таки неплохой "корсаковской" лошади, без какого-либо оружия, но с захваченным им из родительского дома тюком собственной зимней одежды, двумя небольшими бурдюками с водой и парой котомок, набитых хлебом, салом, копчеными курами, луком и вареными яйцами, наконец-то, покинули шумную Москву и направились к широко раскинувшемуся на левом берегу Клязьмы граду Владимиру…
Глава 2. Царская сакма
По прикидкам Бекетова, с учетом объезда Владимира, до Мурома они должны были добраться за шесть дней.
Сутки там – на отдых, потом – три дня на путь до Арзамаса.
Этого было вполне достаточно, чтобы на двое-трое суток опередить будущего столичного гонца в арзамасское порубежье с известием о новом царе на Руси и не допустить краха их легенды о своем отсутствии при перевороте в Москве в первый же день прибытия в пункт назначения.
Пока ничего не мешало осуществлению их плана.
Погода стояла сухая и располагала к длительным поездкам.
Первые часы своего вынужденного путешествия Григорий и Петр предпочитали молчать, сосредоточившись на управлении лошадьми и размышляя о сложных перипетиях собственной судьбы, столь резко выдернувшей их из устоявшегося быта московской жизни и направившей на далекий и неспокойный юго-восточный рубеж Русского царства.
Мысли Бекетова были настолько заняты внутренним анализом случившихся с ним в последние три дня событий, что он абсолютно не обращал внимания на скачущего рядом с ним Ларина, предпочитая вспоминать и обдумывать снова и снова все действия и слова Корсакова, которые все больше приводили его к выводу о том, что хитрющий дьяк еще заранее, с момента их с Астафьевым попадания в Застенок Разбойного приказа и сообщения о нелепой гибели особого обыщика Язева, спланировал эту хитроумную комбинацию по решению одним махом всех своих служебных и личных проблем и вопроса спасения сотника, когда-то спасшего ему жизнь.
Справедливости ради надо сказать, что и Петр, в этот период времени, с полным безразличием относился к присутствию возле себя мрачного всадника, назначенного приказным дьяком ему в начальники на ближайший год, переживая за оставленных дома престарелых родителей и заставившую волнительно трепетать его сердце, при случайных встречах на посадских улицах, юную соседскую красавицу по имени "Дарья", которую ее родственники вполне могли выдать замуж до его возвращения в Москву.
Но постепенно эффект все большего удаления от столицы и вид окружающей их природы стали возвращать новоявленного особого обыщика и его помощника в реальность и располагать к непринужденному общению.
Первым начал разговор обладающий врожденной вежливостью Ларин:
– Григорий Кузьмич, позволь вопрос задать?
– Давай, – кратко ответил Бекетов.
– Из напутствий Клементия Григорьевича я понял, что ты нынче один-одинешенек – вдовый, бездетный и сиротный… Истина ли это, али я попутал что?
– Истина, – все также кратко ответил ему Григорий.
– Не сладко, поди, одному-то? – с сочувствующим вздохом молвил Петр.
– Не сладко… – монотонно подтвердил Бекетов.
– Понял также я из ваших разговоров с дьяком, перед выходом из Пытошной, что ты, Григорий Кузьмич, до обыщицкой должности стрелецким сотником в Стремянном полку был. Поясни, коли не трудно, а пошто вас, кремлевских стрельцов, стремянными кличат, а остальных ваших московских сослуживцев – нет? Да, и кафтаны в праздники на вас красные надеты, а на них – все больше зеленые и прочие… Даже подкладки служилой одежи и сапоги на вас желтого хоза – тоже не как у других… Пошто такая разница в цвете? – не унимался в попытках разговорить своего малоразговорчивого собеседника Ларин.
– Стремянные мы, ибо – конные, в отличие от других московских стрельцов. И обязанность наша, помимо караульной службы в Кремле – сопровождать и охранять царя во всех его поездках и походах… ну, и ежели понадобится, перелом в сече обеспечить в нашу пользу, ибо мы – лучшие воины во всем царевом стрелецком войске. Сам Иоанн Васильевич наш полк создавал… Соответственно, и цвет государевой служилой одежи с сапогами нам был определен отличный от остальных, – неожиданно дал развернутый ответ Бекетов. – Ну, а ты, подьячий, что мне о себе растолкуешь?
– Петр меня зовут, – напомнил ему Ларин. – Из московских жильцов я. Живу в родительском доме с матерью и отцом, который тоже в одном из кремлевских приказов подьячим служил, пока, с возрастом, глаза не стали хуже видеть. Вся надежа моих стариков нынче токмо на меня. А я… Я даже невестой пока еще не обзавелся. Хотя… надысь появилась у меня одна зазноба. Как вернусь с Арзамаса, так сразу и женюсь на ней!
Бекетов впервые внимательно посмотрел на Ларина.
"А парень-то, вроде, неплохой мне в помощники достался. Не его вина, что я влип в такую непростую историю. Ему самому, вон, эта годовая ссылка на окраину Русского царства костью в горле встала", – с невольным сочувствием к подьячему подумал он.
И на небольшом дневном привале, перекусывая вынутыми из подаренных им "корсаковским человеком" в Москве продовольственных котомок хлебом, курицей и луком, уже сам Григорий попросил Петра рассказать ему немного о Разбойном приказе и сыске, что тот с удовольствием и сделал, не прерывая процесс поглощения пищи.
Мало кто в подробностях знал тогда – как зарождался на Руси сыск. А Ларин знал.
Он вообще был человеком любознательным и к любому порученному делу относился ответственно и с искренним интересом.
Бекетову, действительно, с ним повезло, так как Петр, несмотря на возраст, был кладезем знаний, касающихся как прошлых, так и нынешних дел Разбойного приказа.
Ларин обстоятельно поведал ему о "губной реформе", проведенной в Московском государстве царем Иоанном Васильевичем, который, собственно говоря, и создал "Разбойную избу", чуть позже преобразованную в особый "Разбойный приказ", утверждавший приговоры местных "губных" органов и контролировавший аппарат борцов с преступностью: столичных "особых обыщиков" и провинциальных "губных старост" с "губными целовальниками", а также впервые разработал и утвердил саму систему сыска "лихих людей".