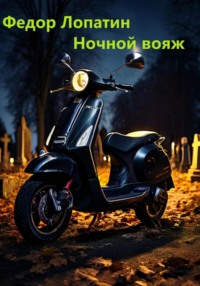Полная версия
Рейс в одну сторону 3
– Да? – отозвался лаборант.
– Вы там уснули, что ли?
– Нет.
– Повторяю вопрос…
– Не надо – я понял. Северная сторона, первый уровень, или нулевой, не знаю. Короче, я стою там, где столовая.
– Понятно, – ответила диспетчер. – Ждите.
В решетке щелкнуло.
– Ну, слава Богу! – выдохнул Шишкин, с опаской посмотрев на Горелкина. «А что, если он умер: как тогда быть? – подумал он. – Значит, его унесут так – мертвым», – тут же ответил он сам себе и немного успокоился.
Как только прибыли санитары во главе с Могильным, старого следака наспех осмотрели и тут же унесли в госпиталь. Шишкину, по неизвестной ему причине, Могильный велел молчать.
– Лучше бы вам, уважаемый, – сказал тогда же Могильный угрожающим тоном, – забыть о том, что вы видели, ясно?
При этом он с хитрым прищуром посмотрел на бейджик Шишкина, запоминая все, что там было написано, будто из обыкновенной фамилии и такого же обычного имени можно выудить абсолютно всю информацию о человеке. Молодому лаборанту в который раз за этот последний час стало не по себе.
Слова доктора звучали так, будто бедный лаборант был виноват во всем, что произошло с Горелкиным. Он тогда же промямлил, что и не думал об этом никому рассказывать, и что, мол, да – он будет молчать, как рыба об лед.
Могильный, похоже, этим не удовлетворился и сказал, чтобы Шишкин шел сейчас же вместе с ним, чтобы подписать какую-то бумажку. Шишкин тогда же пожал плечами, мол, я хотел идти совсем в другую сторону и совершенно по другим делам. А тот ему ответил, что, нет, братец, ты пойдешь в мой кабинет, иначе вколю тебе такой укол, что забудешь имя собственной матери. Шишкин тут же попытался неудачно отшутиться, что, дескать, и так его давно забыл, но этот странный доктор произнес такое длинное название лекарства, что Шишкин, не на шутку испугавшись, передумал с ним спорить, и поплелся вслед за «процессией», возглавляемой Могильным.
С Шишкиным вопрос решился довольно быстро. Коварный доктор сунул ему под нос бумагу, где коротко было написано, что в случае разглашения информации, которую потребовали держать втайне, трепач будет посажен в карцер на месяц. Осталось только добавить: «без еды и воды», но Могильный, душа-человек, не стал вписывать этого «диетического» пункта, чтобы совсем не пугать людей, которых на объекте набралось предостаточно. Шишкин не знал, что среди его коллег добрая половина подписала вот такие же бумажки, когда они оказывались практически в аналогичной ситуации, в какой оказался молодой сотрудник. Правда, никто из работников лаборатории не делился с Шишкиным этой информацией, и правильно делал, ведь, пункт седьмой данного документа гласил, что в случае разглашения факта подписания этой бумаги, человек получал тот же месяц одиночной камеры. Шишкин, поставленный, тем самым, перед этим фактом, думал, что он один такой невезучий на всем «Цитроне», вляпавшийся неизвестно в какое дерьмо в свои свободные от работы полтора часа, будь они не ладны.
Санитары отнесли Горелкина самостоятельно – без «присмотра» Могильного. Старому следователю досталось место рядом с кроватью Кондрашкиной. Маргарите было так плохо, что она, не открывая глаз, могла лишь слушать, что творится вокруг нее. И она слышала, как кого-то принесли поздно ночью; как бросили нового пациента на кровать, скрипнувшую под тяжестью стокилограммового тела; как, позже появившийся, Могильный сказал какую-то гадость, глядя на полуживую Маргариту… Тогда же она подумала, что обязательно найдет возможность хоть как-то отомстить и ему, и тому хирургу, Геннадию Винверовичу, пусть это и будет не сегодня и ни завтра, но она сделает этим извергам так больно, что они вовек этого не забудут. На счет того, что они настоящие изверги, у нее не осталось никаких сомнений, иначе, зачем ее одурманивать каким-то веществом, а потом несколько часов держать здесь, в этом допотопном госпитале, пичкая неизвестными лекарствами. Нет, она с ними разберется раз и навсегда – пусть только у нее появятся силы.
Ее размышления прервались возгласом удивления «много улыбчивого человека»:
– Это что еще за черт! – воскликнул Могильный, уставившись на окровавленное тело медсестры.
«Не может быть, чтобы он не заметил этого раньше», – злорадно подумала Маргарита. – Хотя, ты же только сейчас появился здесь, доктор Смерть».
– Кто-нибудь может мне объяснить, что здесь происходит? – спросил кого-то Могильный, но, кроме санитаров и полуживых пациентов в госпитале никого не было. Оставался, правда, еще охранник, но этот вопрос, очевидно, был адресован не ему, так как выход из госпиталя находился так далеко, что нужно было еще докричаться до того охранника.
Маргарита постаралась открыть глаза и повернуть голову, чтобы убедиться, что выход действительно находится на том расстоянии, куда нужно орать во всю мощь своих легких. Еще ей стало жутко интересно – стоит ли на «часах» охранник, или он так и не вернулся из своей курилки?
У Кондрашкиной ничего не получилось: шея не могла повернуться хотя бы на миллиметр – ее будто заморозили лошадиной дозой местной анестезии, и Маргарите не удавалось даже проглотить слюну, скопившуюся в глотке. А свинцовые веки не хотели открываться, будто заморозка от шеи «перетекла» по сосудам и туда.
Маргарита вдруг закашлялась, и в тот же момент в шее что-то хрустнуло. Кондрашкина смогла, наконец, повернуть голову, и почти в ту же секунду открылись ее глаза – она увидела всё: Могильного, стоявшего рядом с окровавленным телом медсестры; рослых санитаров, с брошенными тут же, под ноги, пустыми носилками; новенького, кинутого теми же санитарами на соседнюю кровать.
Маргарите вдруг захотелось встать и рассмотреть всё получше, но ноги ее были холодные и будто каменные. Она с невероятным усилием дотянулась рукой до правой ноги и потрогала бедро: да, она не ошиблась – нога, холодная как лед, не чувствовала прикосновения теплых пальцев руки. Маргарита от отчаяния царапнула кожу бедра ногтями, и вновь ничего не почувствовала. Зато она ясно ощутила, как по щеке побежала горячая от обиды слеза. «Ну вот, началось», – с горечью подумала она, снова закрывая глаза.
Она снова попробовала приподняться, и на этот раз ей удалось чуть-чуть оторвать плечи от подушки. Этого хватило, чтобы можно было снова посмотреть туда, где стоял Могильный со своим обслуживающим персоналом, и еще чуть назад – на пустую кровать Елены. «Значит, она действительно ушла», – подумала Маргарита, внутренне радуясь тому, что это ей не привиделось. Вот только куда она могла пойти в таком состоянии, когда ни слова не могла произнести, и вообще слабо реагировала на вопросы Кондрашкиной, когда та с ней пыталась говорить несколько часов назад. Маргарита и предположить-то боялась, чем пичкали Елену все это время, пока та лежала здесь, а уж как она теперь себя чувствовала, можно было лишь догадываться, придумывая себе страшные истории, от которых становилось не просто тошно, а ужас как жутко. И только сейчас Маргарита вспомнила, что Елена ушла сразу же вслед за тем страшным человеком, который вылез из стены и убил медсестру. Скорее всего, он потом стоял около выхода и ждал, пока Елена его догонит, чтобы уйти вместе с ним, но вот куда – это одному Богу известно. «А вдруг он ее прибьет?» – подумала Маргарита, но тут же вспомнила еще одну деталь: тот страшный человек о чем-то несколько минут говорил с Еленой, а та ему всё кивала – значит, они о чем-то договаривались, может, о месте встречи, или еще о чем?» Вопросы сыпались на голову бедной Маргариты, как из рога изобилия, и все они, как назло, были неразрешимы. Эта неизвестность раздражала ее больше, чем Могильный, который всё не уходил, а тупо стоял на одном месте и смотрел на кровавый пол, на маленькое мертвое тело своей подчиненной, не зная, что делать дальше. Тут он оглянулся и посмотрел на Маргариту затравленным взглядом: очевидно, мозг еще не успел свыкнуться с неожиданной утратой медсестры, и он, находясь в полной растерянности, выглядел сейчас, как человек, заблудившийся в большом незнакомом городе. Но как только до его мозга дошло, что он видит перед собой Кондрашкину, лицо Могильного вдруг перекосила такая злоба, что он готов был прыгнуть, как кот, и вцепиться в глаза Кондрашкиной, бесившие его в эту минуту больше всего на свете. Он всегда боялся ее глаз с тех самых пор, как только первый раз встретился с Маргаритой на «Цитроне». Два года назад, когда его привезли на этот объект, при первой встрече с Кондрашкиной он что-то тогда у нее спросил, а она так ему ответила, что у него занемел язык, и он не мог открыть рта в течение часа. Через несколько дней Могильный обо всем забыл, словно из его памяти стерли этот неприятный эпизод, и он снова нарвался на Маргариту: ситуация с онемевшим ртом повторилась с пугающей точностью, вот только этот момент он запомнил надолго. И всякий раз, как только Могильный случайно сталкивался с этой странной женщиной, с ним происходили какие-нибудь неприятности…
Теперь же он смотрел на Маргариту, не боясь больше ее глаз. Что-то внутри Могильного обманчиво советовало ему не поддаваться сомнениям, и, напрягая все силы, продолжать глядеть в эти страшные черные очи, пока женщина сама их не отведет. Он был так в себе уверен, что от этих чудовищных усилий ноздри его горбатого носа стали раздуваться, как у быка, но Кондрашкину почему-то это не испугало, а наоборот позабавило. Она хохотнула, будто ей вспомнилось что-то смешное про этого жалкого докторишку, и он, услышав этот короткий смешок, вдруг как-то погрустнел и даже обмяк. Маргарита почувствовала, как он ослабел и вот-вот должен был вскрикнуть от боли, которая уже пронзала все его тело стальными иглами, хотя Могильный терпел, сколько мог. И тут его «бычий» нос стал вдруг «добрым» и мягким, а глаза, секунду назад напряженно глядевшие на Маргариту, уставились, с виноватым видом, в пол, как это произошло вчера, когда она пришла к нему в кабинет, а этот червь вздумал над ней посмеяться.
Он все еще держался на ногах, что несколько удивило Маргариту, но, когда через минуту после переглядок, у Могильного пошла изо рта белая пена и закатились глаза, Кондрашкина, наконец, выдохнула, и «отпустила» «много улыбчивого» мерзавца. Доктор схватился за горло и упал на колени. В следующую секунду он рухнул на кровавый пол рядом со своей мертвой медсестрой, а тело его забилось в жутких конвульсиях. Санитары стояли чуть поодаль, разинув рты: они не знали, что делать – кроме, как таскать носилки, они больше ничего не умели.
Маргарита вновь легла на подушку, моля о том, чтобы Могильный не поднимался как можно дольше. «Ведь, эта скотина будет мне мстить», – подумала она, и ей вновь захотела встать с кровати, чтобы уйти отсюда прочь. Не обращая внимания на то, что ее ноги по-прежнему не шевелятся, она, подвинув свое туловище ближе к краю кровати, зацепилась пальцами за решетчатое изголовье. Сделав усилие, Маргарита подтянулась на пальцах и опустилась на острый железный край ложа, едва прикрытый простыней: узкого матраса не хватало, чтобы полностью накрыть скрипящую сетчатую раму, и Маргарита ойкнула от боли, когда стальное ребро рамы вдавилось в плечо, бок и бедро. Наконец, она вытолкнула себя наружу и грохнулась на пол. «Какая я дура!» – подумала она, но это была мимолетная мысль. Следующей мыслью был приказ успокоиться и взять себя в руки. Она не видела, как за ней наблюдают чьи-то глаза, буквально напитанные ненавистью…
Шум упавшего тела заставил Могильного прийти в себя. Он медленно повернул голову на этот звук, и увидел Маргариту, лежавшую недалеко от него. Могильный злорадно улыбнулся: сейчас он покажет этой колдунье, где раки зимуют, вот только для этого нужно встать. Без посторонней помощи этого, конечно, сделать нельзя, но всегда под рукой есть «обслуга». Он так же медленно повернул голову в другую сторону: точно – два остолопа в чистых белых халатах стояли рядом с ним, разинув рты, и ничего не предпринимали.
– Тупые скоты! – вскричал Могильный, но не услышал собственного голоса.
– Что он там шепчет, а? – спросил один из санитаров.
– А шут его знает, – ответил другой.
Могильный попытался вновь крикнуть что-нибудь отрезвляющее этих идиотов, но первый вновь спросил второго тоже самое, о чем спрашивал секунду назад. Могильный отвернулся и закрыл глаза. Что с ним, черт возьми? Почему он лежит на полу? Могильный заныл, чувствуя, как раскалывается голова: он хорошо приложился затылком к металлическому полу, и теперь, забыв на мгновение о Кондрашкиной, хотел лишь подняться на ноги и посмотреть, что творится вокруг, а заодно пропесочить этих двух придурков, которые не могли оказать ему первую медицинскую помощь.
– Скоты! – прошипел он, исходя горючей слюной. Санитары его не слышали: Могильный понял это по той самой волшебной тишине, которую в этот момент не тревожили тупые вопросы.
Могильный напрочь забыл о Горелкине, всё это время недвижно лежавшем на кровати, и не подававшем признаков жизни. Однако, доктору – этому главному по моргу и своему отделению, было важно сейчас одно: встать на ноги и дойти до проклятой ведьмы Кондрашкиной, которая довела его до такого состояния. И чем больше он об этом думал, тем хуже ему становилось, а он, так и не поняв этого, все больше и больше причинял себе боль одной лишь мыслью о мести Маргарите. Тем временем Кондрашкина, нащупав в кармане халата случайно прихваченный с собой кубик, сжала его в руке и тут же почувствовала мощный прилив сил. Не думая более ни секунды, она встала на окрепшие вдруг ноги, и, оглянувшись на хрипевшего в бессильной злобе Могильного, пошла к выходу.
Глава 3
Трясогузов проснулся раньше своего будильника. Тяжесть и боль в голове были такими, будто он совсем не спал. К этой тупой боли примешивалось какое-то странное чувство, словно что-то было им потеряно, упущено навсегда, брошено им же самим, как бросают, например, деньги на ветер, вспоминая потом о них, как о единственном богатстве, которое еще вчера было, а сегодня его уже нет. Трясогузов больше не мог найти сравнений для этого ощущения какой-то потери, и напрягшись, вдруг вспомнил: вчера случилось нечто отвратительное, в чем он принимал непосредственное участие. Что случилось, он вспомнил во всех деталях, но вот поверить в то, что именно он был пособником в грязных махинациях Малыша, толстяк так и не смог. Все сейчас выглядело так, будто он хотел смотреть на произошедшее со стороны, а он был бы всего лишь невинным наблюдателем. И как же, черт возьми, было бы ему сейчас легко, если б он просто сидел в своем старом креслице и смотрел, как происходит преступление, которое больше походило бы на захватывающий фильм с преступниками и их жертвой, а он – безобидный толстяк – всего лишь был здесь зрителем, купившим билет в первый ряд, и жрущим попкорн, ведерко которого стояло бы на его парализованных ногах. «Но это было не так! Это было совсем не так, черт бы меня побрал!» – вдруг возопила в голове трезвая мысль, убравшая мигом всю боль и тяжесть плохого сна. Тут же посыпались вопросы, на которые Трясогузов не хотел отвечать. Как он вообще согласился «работать» с этим типом, которого с детства терпеть не мог? Что это за превратности судьбы такие, когда нужно наступать себе на горло и быть в связке с давним врагом? «Нет, нет, и нет!» – снова и снова повторял про себя Трясогузов, как только в памяти в который раз всплывала картинка с полуживым Королевым, уложенным на носилки.
Трясогузов не знал, как ему теперь быть. Конечно, никто, кроме него, Малыша и Могильного, не знал о его участии в операции по перемещению Королева на другой объект, но ему от этого было не легче.
Он лежал на кровати с открытыми глазами и желал только одного – ни о чем сейчас не думать. Он хотел, чтобы его голова была пуста, как огромный медный чан, и чтобы свежий морской ветер наполнял этот сосуд, не давая проникнуть туда ни одной, даже самой невинной, мыслишке.
Толстяк схватился за голову – она снова трещала так, словно он вчера напился жуткого самодельного пойла. Что же делать, ведь он теперь накрепко повязан с двумя проходимцами неизвестно каким преступлением, которое непременно должны будут расследовать? Похищение человека – это не воровство трех рублей у коллеги по работе, и за это светит реальный уголовный срок.
Трясогузова нелегко было обмануть, где бы он ни жил и ни работал, но вот вчера толстяк дал маху. Никогда с ним ничего подобного не случалось, и вообще Трясогузов всегда отличался тем, что у него острый ум. Этот ум помнит всё и всегда, и ничто не способно сбить его с мысли, пусть даже это была мимолетная легковесная мысль, как случайный ветерок – и, тем не менее, толстяк, мог схватиться за нее своим цепким разумом и обдумать ее, если можно так выразиться, спокойно без лихорадочной суеты.
Сейчас же этого не было, словно его вчера напоили каким-то составом, названия которого он не знал, и бросили на кровать вот в этой самой комнате, казавшейся ему незнакомой вот уже добрых пятнадцать минут. Он еще раз зажмурил глаза, потом широко их открыл, и с тревогой оглянулся, заранее боясь не узнать, где сейчас находится. Слева стоял стул, с повешенными на его спинку шмотками Штукка, а справа – кровать какого-то сотрудника, с которым он еще не успел познакомиться. «Ну, вроде бы, дома», – подумал Трясогузов с облегчением, снова вернув голову в исходное положение, то есть – глазами в потолок. Над ним тихо работал кондиционер, и пока не включили свет, можно было себе представить, что где-то далеко работает огромная машина, перевозящая тяжеленные грузы в несколько десятков тонн весом. Трясогузов любил пофантазировать на этот счет, представляя, что находится совсем в другом месте, а где-то за стеной, или на самом верхнем уровне, происходит какая-то важная работа, от которой зависит его жизнь и жизни тех, кто находится с ним рядом в комнате отдыха. Его странные фантазии, позволявшие ему оказаться от этого места так далеко, что самому становилось страшно, однажды привели к тому, что он, таким образом, «оказался» на другом острове, где, кроме высоких гор, было огромное здание, с поросшими мхом стенами. Он иногда видел перед собой эту картинку и наблюдал за тем, как люди с автоматами расхаживали перед маленькими приземистыми дверями, за которыми скрывался вход в это таинственное здание. Трясогузов еще тогда думал, что такого рода строения годны разве что для секретного бункера, вот только зачем там снаружи стоят автоматчики, один вид которых мог привлечь внимание диверсантов. Если бы у Трясогузова был такой же бункер, больше напоминавший крепость или средневековый замок, только усовершенствованный, он бы не расставлял людей так открыто, а спрятал их где-нибудь рядом, например, в невидимых врагу «норах», сделанных в тех же горах, что окружали это загадочное строение; или расставил бы их по всему периметру, сделав предварительно невидимыми: вот бы враг «приятно» удивился, подойди он вплотную к такому «домику», около которого никого нет, а в следующую секунду – раз, и из воздуха возникает много-много людей с автоматами, эрпэгэшками и прочей стреляющей чепушнёй…
Мысли Трясогузова уносились все дальше и дальше, и он, так и не услышав будильника, снова уснул.
Его толкнули в бок: рядом стоял Ильич. Первое, что от него услышал толстяк, были слова из далекого детства:
– Пора вставать, а не то все царство небесное проспишь!
И сказал он это так громко, будто хотел, чтобы все услышали этот боевой клич.
– Отстаньте вы от меня! – злобно ответил Трясогузов, отворачиваясь от Ильича.
– Отстану, отстану, – пробубнил старик и сразу же ушел.
Трясогузов продолжал лежать, не думая вставать, и в голову снова полез Королев, отравленный его же руками каким-то ядом.
– Что же теперь делать? – спросил себя вслух толстяк.
К нему снова подошел Ильич.
– Да что у тебя стряслось-то? – спросил он, присаживаясь на соседний стул.
– Идите уже работать! – отозвался Трясогузов, резко повернув к нему голову.
– Мне сегодня попозже можно, – ответил Ильич, – а вот тебе, уважаемый, действительно пора: на часах семь утра, так что – подъем!
– Да пошли вы! – ответил толстяк и натянул на голову одеяло. Он вдруг поймал себя на мысли, что каждый новый день похож на предыдущий: он приходит с работы, к нему подваливает Ильич, начинает с ним всякие разговоры разговаривать, и он на следующее утро, с больной башкой, должен снова идти на работу. А тут Ильич подошел с самого утра и стал забивать «баки». «Это что-то новенькое», – подумал Трясогузов, и недовольно поморщился.
Трясогузов проводил взглядом удалявшегося к своей кровати Ильича, и вдруг вспомнил, что давненько не разговаривал со своим давним приятелем Ральфом Штукком. Что-то все время мешало их разговору: то работа, то какие-то заботы. «Ага, особенно как сегодня», – горько напомнил себе Трясогузов и перевернулся на другой бок, глядя, как вздымается широкая грудь Ральфа. И в этот момент ему показалось, что из этой груди раздается какой-то ненормальный свист – слишком уж громкий, чтобы быть просто сопением, если вдруг ошибочно принять одно за другое. «Интересно, он успел сходить к Могильному, или нет? Скорее всего – нет: тот уродец был занят совсем другими делами». Толстяк тут же вспомнил трясущиеся руки доктора, когда тот делал укол Королеву. Если завтра пойти к нему и спросить насчет Ральфа, что он ему ответит? Или не ходить, а поговорить с самим Ральфом, который может легко наврать, чтобы Трясогузов не лез к нему с этими неудобными вопросами?
И тут он вспомнил о странных кубиках Ильича, от которых его в прошлый раз тряхнуло так, будто он обнял столб высоковольтной линии, обмотанный оголенными проводами. «А что, если этими кубиками попробовать вылечить Ральфа?» – подумал толстяк, удивляясь, как эта идея не пришла ему в голову раньше. Вот только нужно было как-то уговорить Ильича дать эти кубики, а то, кто его знает – может он, бережет их, как семейную ценность.
С этими благими мыслями Трясогузов сполз с кровати в свое кресло и поехал к старику.
– Здоров, сосед! – сказал он веселым голосом, ставя кресло рядом с тапочками Ильича.
– В который уж раз, – буркнул обидчивым голосом Ильич, памятуя о том, как десять минут назад толстяк грубо его отшил, прогнав со стула – «вешалки» для вещей Штукка.
– Ну, ладно, не обижайтесь: меня с утра лучше вообще не трогать, – сказал Трясогузов и улыбнулся, старясь сделать это настолько по-дружески, что, наверное, малость с этим переборщил.
– А чего это ты лыбишься? – с подозрением спросил Ильич и поморщился. – Или хочешь чего?
– Как вы догадались? – удивился Трясогузов, сразу не сообразив, что нужно было сдержаться, чтобы не показывать виду, что ему действительно кое-что нужно от старика.
– Ну, я же не мальчик, в конце концов, хотя… – Ильич сделал многозначительную паузу, и поболтал кистью в воздухе, словно стряхивая с нее слишком тугой ремешок часов, которых у него не было.
– Да, вы правы, – не стал больше юлить Трясогузов, – дело у меня к вам на сто рублей.
– Чего-то дешевенькое какое-то дельце, не находишь?
– Ну, уж какое есть.
– Чего надо, говори скорей, а то мне на работу еще идти, в отличие от некоторых, – Ильич не сводил глаз с толстяка, прозрачно намекая, что тот слишком подзадержался в комнате отдыха.
Трясогузов не знал, как начать. В голове он уже несколько раз прокрутил свою просьбу, и было это просто и быстро. Но сейчас, глядя на сидевшего перед ним Ильича, он вдруг чего-то испугался. Испугался, что тот откажет ему в просьбе, в которой не было ничего необычного; испугался, что этот старик-юноша посмеется над ним и напрочь закроется от Трясогузова; испугался, что вся эта затея с кубиками – пустой вздор, и он сам будет потом себя ругать за то, что осмелился предположить, что какие-то куски железа способны вылечить его друга…
Ильич сразу заметил эти сомнения на лице Трясогузова и терпеливо ждал, пока тот, наконец, озвучит свою просьбу. Он не хотел его торопить, чтобы не спугнуть, и, словно зная, о чем тот его попросит, потянулся к своим брюкам, висевшим на спинке стула, и засунул руку в тот карман, в котором лежали кубики, по крайней мере, Трясогузов видел их вчера именно в правом кармане этих старых черных брюк Ильича. Может старик и умел читать мысли, но Трясогузов все равно не мог произнести вслух своей просьбы, будто какой-то ступор нашел на него, или он неожиданно потерял дар речи. Ильич не стал долго ждать, пока Трясогузов справится со своим ступором, и сказал всё, о чем и так уже знал:
– Слышь, товарищ дорогой, давай уже начистоту: я дам тебе эти кубики, но только ты должен помнить одну вещь…
– Какую? – тут же перебил его Трясогузов, не веря своим ушам: неужели тот и впрямь прочел его мысли?
– Ты должен помнить, – продолжил Ильич, – что они могут как вылечить, так и покалечить, то есть, относиться к ним нужно, как к лекарству.
Трясогузов на секунду призадумался.
– А как мне узнать, что уже пора заканчивать ими пользоваться? – спросил он, нахмурив брови.