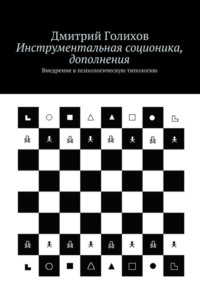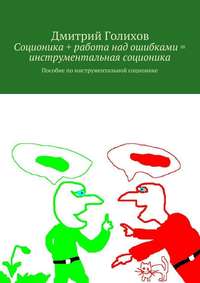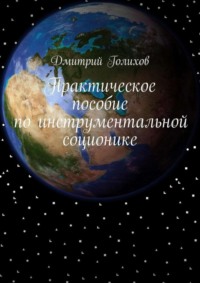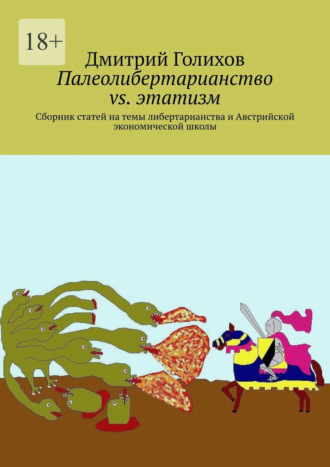
Полная версия
Палеолибертарианство vs. этатизм. Сборник статей на темы либертарианства и Австрийской экономической школы
Не будем забывать, что фирма бывает еще и государственной. То есть – это вообще «безответственность в квадрате». Мало того, что ответственность за ее действия несет некая бесплотная сущность, так у нее еще и нет конкретного владельца. Вы понимаете, куда это все клонит? Абстрактная сущность, которая плодит другие абстрактные сущности. А могло бы такое быть вообще, если бы такого понятия, как юридическое лицо – не существовало «в природе»? Нет, это было бы невозможно. Нет юрлица – нет и государственных предприятий, извечных проедателей госбюджетов в подавляющем числе случаев (когда нет риска разориться и получить ущерб от неудачного решения – сложно говорить об успешности деятельности, она не проходит испытания на жизнеспособность рынком, капитал, вместо увеличения – просто проедается и снова подпитывается из бюджета за счет ограбления собственников налогами).
Если людям какого-то государства хочется платить налоги на какие-то общие надобности, то для этого нет причины плодить такие бюрократические сущности, как юридические лица. Есть такое понятие, как подушный налог, который платит честно каждый гражданин, независимо от того, сколько ему удается зарабатывать. Этот принцип гораздо честнее, что государство не пытается совершить аморальный акт принудительного изъятия средств из чьего-то частного кармана в зависимости от его успешности. При этом необходимость создания юридического лица отпадает полностью, а с ним и необходимость содержать «тучу» клерков, отчетности перед государством за каждый свой шаг. Плюсами будет еще и возможность в любой момент времени «выйти из дела», разорвать контракты без последствий для себя (кроме указанных в договоре, скажем, с нанимаемыми людьми), сменить резко сферу деятельности. Налоговая служба вообще будет практически не нужна, на порядок снизится (если не полностью исчезнет) бюрократия, отпадет надобность в огромном количестве лицензий государства. Зачем? Все и так знают, что у Ивановых лучший сидр в городе, Петровы его разбавляют, а на Сидоровых подают в суд за ущерб здоровью после их «пойла».
Сейчас физические лица, то есть обычные живые люди – практически не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью только потому, что государству будет сложно отследить их успешность и «развести» на налоги. Только ради этого придуман весь этот ад с юридическими лицами и бюрократией всяческой отчетности. Что это, как ни делегирование части естественных прав людей неким мифическим сущностям? Если ты ее не создал собственноручно, то не имеешь права на себя тем самым в полном объеме…
Кто-то считает, что регистрация в качестве индивидуального предпринимателя снимает часть проблемы, но на это можно возразить, что далеко не каждый готов на это пойти. Мало того, что нужно что-то регистрировать, чтобы вернуть себе самому часть естественных предпринимательских прав, так вы еще и обязаны вести, например, журнал доходов и расходов, отчитываться перед налоговой инспекцией, платить множество платежей (независимо от наличия дохода). Есть ли смысл возвращать их себе в таком жутком виде?
Некоторые могут понять этот текст (и уже поняли, что меня немало удивило) так, что я якобы хочу запретить добровольные объединения людей, но это совсем не так. Никто не мешает создать какой-то бренд, объединение или предприятие. Я лишь предлагаю вернуть вспять время и сделать субъектами права только живых людей, вернув им тем самым сто процентов их предпринимательских прав. При этом, если была какая-то фирма ООО «Картошка» с владельцами Иваном и Петром, то она становится просто собственностью Ивана и Петра – предприятием «Картошка». Никто не мешает Ивану и Петру в договорах именовать себя этим названием, когда они будут заключать сделки от своего лица (Иван и Петр, именуемые в дальнейшем предприятие «Картошка», заключили договор с… о нижеследующем…).
Вообще же в целом корпорации – это прошлый век, ими сложно управлять качественно. Проще даже когда много более мелких фирм объединяется в группу: одна делает шины для машин, другая фары, третья собирает и так далее. И если где-то проблемы, то любой контракт легко порвать и найти другого поставщика детали, включить его в группу, но рынки еще пока не настолько конкурентные. Нет такого, чтобы любую деталь от автомобиля можно было сразу найти, только по отдельным запчастям. Многие «группы компаний» образуются именно таким образом, так как союз разных фирм (и разных собственников) более гибок, что ли. Например, в брокерском бизнесе вполне типично, когда одна фирма является депозитарием (учет ценных бумаг), вторая занимается управлением портфелями клиентов (ПИФы, доверительное управление), третья – банк (вывод и зачисление средств), четвертая осуществляет брокерское обслуживание (доступ на торги). Периодически состав групп меняется, так как кто-то из фирм разоряется, кто-то находит более выгодное предложение по сотрудничеству, но группе целиком проще «держаться на плаву». В корпорации это все сложнее в том плане, что она или вся успешная, или в полном составе убыточна. Какой-то отдел может быть успешным, но не факт, что это спасет все предприятие целиком от банкротства. У группы компаний же шансы уцелеть будут выше, одна фирма-неудачник не испортит все дело, а будет заменена конкурентом. В книге «Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта» шведских профессоров экономики – эта мысль по моему мнению достаточно сильное обоснование имеет. Бизнес, если резко убрать этатистскую суть нынешнего времени – постепенно пойдет по пути упрощения, когда много мелких фирм делают одну уникальную деталь, и являются монополистами просто потому, что сложно сделать более эффективное производство ее, потому, что там особо нечего планировать и высчитывать (та же проблема, что и при государственном контроле чего-либо, который сложно осуществлять из центра, но в более мелком масштабе). Проще управлять мухой, а не слоном.
Если развить эту тему, то взгляд на государство, как на субъект права – тоже вызывает все те же вопросы. От лица какого «я» принимаются решения на государственном уровне? Гораздо логичней объявить его как организацию, просто собственностью людей, на территориях которых существует данное образование. То есть, если одно государство подписывает договор с другим, то он юридически означает наличие собственников земель, которые хотят заключить контракт с собственниками других территорий. Понятно, что при таком подходе государства будут находиться в состоянии динамичных изменений границ и дробления, как и в случае с бизнесом. Ведь при каждом новом заключении контрактов могут появляться собственники, несогласные с тем или иным решением, и желающие выйти из договора с другими собственниками.
В данной главе я пытаюсь, в первую очередь, объяснить главную проблематику нынешнего времени: естественные права, которые в идеале должны принадлежать людям и только людям (физическим лицам) – по факту частично принадлежат различным странным сущностям: государствам, юридическим лицам, а сами люди их же, в той или иной степени, но лишены. Очевидно, что такое положение вещей едва ли можно считать нормальным.
Я понимаю, что палеолибертарианский подход достаточно жестко стоит на стороне защиты естественных институтов, но не будем забывать, что палеолибертарианцы тем и отличаются от традиционалистов, что через них пытаются прийти к системе добровольных контрактов – либертарианству, а не просто хотят держаться за отжившие свое формы «двумя руками и ногами». Скажем, было бы странным требовать от людей запрета ношения коротких одежд только потому, что сто лет назад это было принято. В результате взаимной критики различных палеообществ эта норма преимущественно ушла в прошлое, но не везде, скажем, в мусульманских странах это все еще много, где актуально. Вполне логично, что на жаре хочется носить шорты, например, и это получило свое выражение в уходе от какой-то традиции из разряда обязательности ношения длинных одежд.
11. Либертарианство, ценности и естественное право
Многие думают, что либертарианство – это такая либеральная в современном значении слова система, где все типа можно, ни за что не надо отвечать, ха-ха. Но это всего лишь система прав с естественным правом как центральным звеном, а не того, как нужно поступать в той или иной ситуации человеку, это не система ценностей. Она подразумевает, как правило, право свободного ношения оружия и много других таких «ништяков». В Техасе, например, вас могут пристрелить просто за какой-то недоброжелательный поступок. Например, если вы займете чужое парковочное место на стоянке, въехав на него в последний момент «перед самым носом» того, кто собирался его занять и стоял ждал, пока оно освободится (что есть однозначно хамский поступок). То есть, как бы за все приходится отвечать – смысл в этом. Да, человеку придется за это сесть в тюрьму, но есть некоторые моральные принципы, которые, возможно, что важнее, чем система прав. У всех разные ценности, в рамках которых находится и либертарианская система прав. И потому люди, которые поступают подобным хамским образом – сильно рискуют «словить пулю». Может быть, в какой-то раз им повезет, но удача не вечна, особенно под техасским небом. Либертарианство всего лишь предоставляет справедливую цену каждому поступку, и когда за хамство могут пристрелить – его цена увеличивается в разы и становится невыгодным.
Пример того, почему система прав не означает защищенность прав собственности того, кто провоцирует конфликт: Зинедин Зидан предпочел ударить головой футболиста, который сказал ему очевидное оскорбление во время финального матча чемпионата мира 2006-го года по футболу. За это он был удален, но это был его осознанный выбор, ценность удаления оказалась ниже ценности того, чтобы бегать на одном футбольном поле с человеком, который сыплет оскорблениями. И каждый либертарианец – он всего лишь разделяет эту систему прав, а вовсе не то, что он оставит без внимания то, что кто-то целенаправленно делает ему какие-то гадости, так как он, дескать, не нарушает его прав собственности.
Gun-free zone всего лишь создает зону безответственности, где «можно все» и это порождает новые проблемы. Откуда берутся все эти туристы в самолетах, закатывающие истерики? Ну, так там же запрещено оружие – значит, можно позволить себе намного больше. Чему удивляться? Я не хочу сказать этим, что именно в самолетах, в первую очередь, надо срочно разрешить всем возить с собой оружие – это личное дело авиакомпаний, какие правила нужно поддерживать на своей собственности, но суть – вы поняли.
Вообще, в этом смысле – «честные стрелки» оказывают неоценимую услугу обществу, когда совершают именно справедливое возмездие за какой-то однозначно несправедливый поступок, нарушающий права собственности подобным образом (если это действительно так, а не просто у кого-то «крыша съехала»). Ведь они как бы создают страх нарушения чужих прав собственности, неэтичности совершаемых поступков с позиции естественных прав граждан. Америка помнит Марвина Джона Химейера как героя, который не позволил государству, находящемуся в сговоре с местной корпорацией – забрать свою частную собственность, мастерскую – и разнес строения агрессора на специально оборудованном бульдозере.
Если чиновник однозначно украл чью-то частную собственность «посредством авторучки», когда кто-то берет в долг деньги и не возвращает – за это все можно легко «словить пулю», и это все увеличивает надежность совершаемых сделок, зачастую заключенных только на словах, это все нередко не нуждается в визировании, но только если это – не Gun-free zone. Да, в либертарианской системе «все по-взрослому» и за каждое неверное действие может наступить «внезапная расплата». Элементы этого прослеживаются в американской культуре, впитавшей в себя нормативы «истинной свободы» первых переселенцев, хоть сейчас и в этом смысле не все так здорово с правами собственности, но на общемировом фоне – скорее всего все еще лучше, чем где-то еще. Не обязательно всегда все так «жестко» – недоброжелательных людей в либертарианских обществах проще бойкотировать в большую часть времени, отказываясь от всех возможных переговоров о возможном сотрудничестве с ними, что будет их конкурентным недостатком, так как они лишаются всех прелестей координации граждан. В стопроцентно либертарианской системе такому человеку, скорее всего, даже будет сложно совершить покупку в супермаркете небольшого городка. Ведь, скорее всего, не будет правил, заставляющих продавца продавать товар всем покупателям. Как в казино, может быть некоторый фейс-контроль от шулеров или нежелательных посетителей.
Короче говоря, смысл главы в следующем – когда речь идет о либертарианцах – гораздо точнее суть явления передает кто-то типа реднека Дикого Запада, чем думать, что это такой «качатель прав», который вас не тронет, пока вы не нарушите его права собственности, даже если вы однозначно проявляете какую-то враждебность. Сами подумайте, если вора можно пристрелить у себя дома, например, и это считается справедливым – понятно, что возможности самозащиты расширяются многократно. Где-то можно и «палку перегнуть», как, например, случайно недавно застрелили какую-то реп-знаменитость, что на нетрезвую голову случайно перепутала свой дом с соседним. Это просто как бы увеличивает цену противоправных действий и ответственность поведения, а не то, что их вовсе не будет. Да и в рамках естественных прав есть много всего, что можно сделать без однозначного нарушения прав собственности: например, пулю можно пустить не в человека, а в сантиметре над его головой, не говоря уже про то, что многое еще нужно уметь доказать в суде. И если некоторый противоправный момент доказать сложно, то вполне возможно, что это также может использоваться.
Вообще, я бы сказал, что проблема наших людей в том, что они забывают про такое понятие, как осторожность. Они думают, что наличие системы каких-то прав уже как бы автоматом означает их защищенность от чего бы то ни было. Но это абсолютно не так, именно поэтому хамство может быть небезопасно. Простой пример: одна женщина шла по лесу с ребенком и какой-то мигрант попросил ее показать его. Она послала его матом, тот обиделся и убил их обоих. Ничто не предвещало трагедии, но женщина полагала, что наличие прав автоматом делает ее неуязвимой, но она была не в суде, а одна посреди леса, безоружная. То есть, система прав не отменяет систему ценностей человека, она только дает цену за каждое действие. Нарушил чужие права собственности – за это полагается ответное нарушение прав собственности агрессора, но это не означает автоматом защищенность человека во всех жизненных ситуациях, что, проходя мимо дома, например, ему случайно на голову не упадет кирпич, что на него не нападет дикая собака или грабитель не будет его поджидать в темном переулке. Либертарианцы просто дают наиболее логичную систему прав, в основе которой лежат права собственности на свое тело и вещи, которых люди являются первыми владельцами, получили их по добровольным договорам. Подобная справедливая система прав не означает, скажем, что вам безнаказанно можно назвать чью-то мать проституткой. В рамках палеоправил, скорее всего, это тоже будет приниматься в расчет и иметь санкции, то есть, сложившихся естественным путем правил справедливого поведения (несогласным же придется менять юрисдикцию для своих земель и отделяться). Но даже при их отсутствии вам еще нужно доказать в суде, скажем, что «кулак прилетел вам в голову» именно от этого человека, а свидетелей этого может и не оказаться. Иными словами, свободное либертарианское общество ближе всего, пожалуй, чему-то типа штата Техас до прихода большого государства в XX-м веке.
12. Государство, искусственные привилегии и естественное право
Что такое государство? Это просто искусственные привилегии на базе защитных услуг, вне договорного общества. Проблему стоит рассматривать именно в этой связи – необходимо в максимальном количестве вернуться к договорному принципу. Любой, кто пытается через государство получить искусственные привилегии – просто участвует в институциональной агрессии против договорного общества: не важно, идет ли речь о бизнесе, который хочет получить защиту от конкуренции через протекционизм и госзаказы, или религии, которая рассчитывает на финансирование из госбюджета, а, может, о высокопоставленном чиновнике, который имеет большую зарплату за перекладывание бумажек с одного места на другое (как пошутил Михаил Жванецкий: «Позицию нашего чиновника я бы определил так: без меня вам нельзя, а со мной у вас ничего не получится!»). К вопросу нужно подходить с позиции прав частной собственности, тогда любая проблематика становится видна невооруженным взглядом.
Наша жизнь внутри государства окружена вещами, которые нам кажутся правильными: ПДД придумывает чиновник, министерство образования разрабатывает план обучение детей в школах, водоканал обеспечивает жителей водой. Проблема в том, что мы понятия не имеем об эффективности каждой предлагаемой услуги. Когда вы сами делаете выбор: купить в магазине один сыр или другой – вы контролируете необходимые свойства интересующих вас продуктов, а другие свойства оставляете без внимания. Когда вам идет по трубам ржавая водичка – вы не можете выбрать другую, государство целенаправленно лишает вас выбора воды от другого поставщика. В некоторых постсоветских странах же, после почти века правления коммунистов, довольно массово сбилось банальное естественно-правовое понимание в данном вопросе о том, что «кто платит деньги, тот и заказывает музыку». В результате возникают довольно забавные ситуации. Так в Бресте, где жильцы платят за монопольные платежи ЖКХ – уборку, ремонты, и тому подобное, внезапно их же еще и стали приглашать из жилконторы «за свои же кровные» приходить помогать решать служащим все эти проблемы те, кто именно за это все получает жалованье. Ну, то есть пытаются «обуть» клиентов два раза: когда вручают монопольный платеж на оплату, от которого нельзя отказаться, и выбрать другого поставщика тех, или иных услуг, и когда просят придти поработать бесплатно на самого себя, отрабатывая за того специалиста, который должен был этим делом заниматься, и получает за это взятые с жильцов деньги. Более того, составителей «приглашения» очень огорчило то, что никто из жильцов так и не пришел бесплатно поработать за свои же заплаченные деньги на объявленные «субботники». Под последними же те имели ввиду даже не какой-то примитивный физический труд из разряда расчистки дворовой территории, а просто посильную помощь жилконторе в решении насущных проблем, которыми занимаются ее самые разные специалисты. Ну, то есть, это была хитрость, которая вышла на запредельно высокий уровень попытки «лохотрона» простых жителей многоквартирного дома.
Когда государство ужесточает законы о безопасности на дорогах – абсолютно не известно, какова будет эффективность этих мер. Простой пример: сделали подсветку пешеходных переходов, в результате стали больше давить там, где переходы оставались без подсветки. Водители вообще переставали реагировать на знаки, если их не подсвечивали, могли себе позволить сильнее разогнаться, а ведь есть еще куча других немаловажных знаков вроде ограничения скорости. Вполне возможно, что, например, именно неподсвеченная «зебра» вынуждала водителей снижать скорость, а когда она стала подсвеченной, то исчезла и осторожность в плане соблюдения скоростного режима. Я просто привел пример того, что не все так однозначно, как оно кажется на первый взгляд. Эффективность осуществления деятельности может появляться только тогда, когда есть собственник или группа собственников, которые заключили договора. Частная дорога в случае неуспешности существующих правил будет объезжаться стороной и нести финансовые издержки. Мы не знаем, какие именно правила будут самыми лучшими, можно сказать только то, что выбор останется за потребителем, в этой связи отпадет множество нынешних идиотских регламентаций. Скорее всего, правила там не будут особо обременительными, иначе не совсем понятно, чем они смогут привлечь клиентуру. При этом сам поставщик услуг постарается сделать реально качественный и безопасный продукт, любой бизнес стремится к этому всеми силами. Даже бренд – уже конкурентное преимущество, которое позволяет продавать товар или услуги гораздо дороже, это не так просто, а результат большой работы. Вы же не сомневаетесь в том, что компьютер от известной марки будет хорошим и качественным, или что сыр определенного бренда внезапно окажется плохим, а почему-то когда речь о такой банальной вещи, как дорога – то сразу какие-то сомнения, и вопросы появляются, как будто это не тот же самый продукт, выдаваемый бизнесом, как этот самый сыр, или компьютер.
Так вот, когда вне рамок договорного общества государство что-либо пытается навязать – оно просто усугубляет проблему. Мораль, идущая от частной религии – это всегда конкурирующий продукт, представляющий ценности каких-то людей, готовых спонсировать именно такой образ жизни. Финансируемый из государственного источника религиозный институт – это уже просто тот же самый инструмент институциональной агрессии. В этом смысле те же самые частные сектанты вроде кришнаитов или адвентистов – гораздо более безобидные ребята, честно зарабатывающие себе на хлеб, чем получающие из бюджета «бабло» и преференции официальные религии, свою состоятельность они как раз должны демонстрировать в умении существовать без бюджетной подпитки. Только тогда мы увидим священников, которые совершают хорошие дела. Этого не будет, пока их деятельность не зависит, например, от наших пожертвований. Не важно, о какой именно религии идет речь, суть в том, что независимый от государства институт будет стремиться представить качественный продукт, иначе он просто будет обречен на гибель. Вот в этом главный смысл и именно поэтому религиозные институты (независимо от того, речь ли идет о буддизме, христианстве, мусульманстве или еще чем-то) должны быть самоокупаемыми, пока этого не происходит – нет и хороших священников. Они не обязаны свою работу выполнять качественно, как и любой другой чиновник – просто отрабатывают вложенные государством деньги и «гнут» основную линию партии, не являются представителями независимого института.
В чем проблема этатизма в России? Здесь слишком часто меняются «правила игры», речь даже не идет о том, что общество должно быть договорное. Даже в этом самом не особо договорном формате нет каких-то возможностей у людей хоть как-то честно «состояться»: как только это происходит, то тут же меняются «правила игры» и вчерашний чемпион объявляется девиантной персоной, чье поведение разрушает общественную мораль. Казалось бы, создал человек ферму, производит товары и продает их, имеет свой доход какой-то. Как вдруг 1917-й год – и резко он «кулак» и «буржуй», обворовывающий народ. Этатистское общество обладает способностью в любой момент создать ситуацию, когда любое успешное действие кого-либо превращается в антиморальное событие. Ощущение, что его главная цель – это как раз не дать состояться кому-либо иначе, чем с великодушного позволения государства. Только в 90-е появилась возможность открыть ларек и продавать пирожки на улице, как тут же выходит постановление муниципальных властей снести их, как «уродующих лицо города» под «улюлюканье» горожан, считающих, что это правильно, так как они – «только грязь разводят». Тогда же, в действительности, к нам пришел рынок в его более-менее свободном проявлении и постепенно сделал качественные товары, услуги доступными для «простых смертных». Это было в период, когда еще совсем недавно приходилось стоять в очередях в булочные и отоваривать талоны на все, на что только можно. Это был такой повсеместный раж, когда можно было смотреть фильмы про Ван Дамма на «видаке» в ближайшем клубе, покупать игры для компьютера и меняться ими. В киосках можно было купить все: от любой «жрачки» – до сложных технических товаров типа плееров, радиотелефонов. Очень много было повсеместных спонтанных базаров, барахолок, «блошиных рынков», на которых можно было найти много «всякой всячины». В 80-е большой удачей было иметь «Запорожец», в 90-е появились «человеческие» марки автомобилей и их стало реально купить. «Денди», «Спектрумы», IBM – это все выводило рынки на качественно новый уровень в технологическом сегменте. Пришли компьютерные клубы, Интернет, сотовые телефоны, пейджеры. Все это так и могло остаться «заморскими игрушками», если бы не свобода в рыночном сегменте, когда любой мог более-менее свободно что-то произвести, продать или купить. К сожалению, век торгового изобилия был очень недолгим, и чиновники вытеснили торговцев с улиц. Конечно, глобально рынок никуда не делся после этого, но оброс множеством поборов и регламентаций, удорожающих все эти товары для населения.
Кто вообще чего-то достигал у нас иначе, чем с одобрения государства? Павел Дуров создал популярнейшую социальную сеть, как тут же его сильно «попросили» продать ее. Суть проблематики всегда такова: когда некто созидает что-либо – у него одни правила игры. Как только у него «получилось» – внезапно меняется вообще все вокруг и созданное конкурентное преимущество внезапно становится страшнейшим преступлением против общества, и государства, его действия становятся ужасным аморальным актом. В более древние времена все было еще драматичней: Мангазея был процветающим сибирским городом с развитой торговлей в 1600-х годах, но появилась опасность того, что он может стать независимым или что иностранцы могут его захватить, как тут же последовал приказ царя 1620-го года Михаила Романова о запрете прохода к городу морским путем из-за опасения, что город может выйти из-под контроля Московии. После этого город пришел в упадок и в 1642-м году просто сгорел в пожаре.