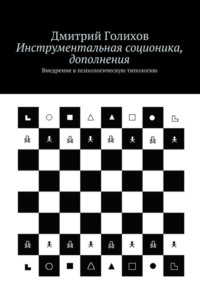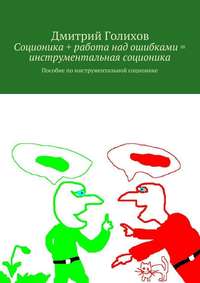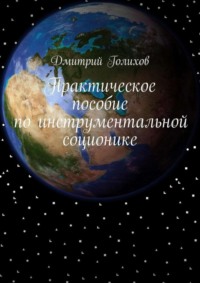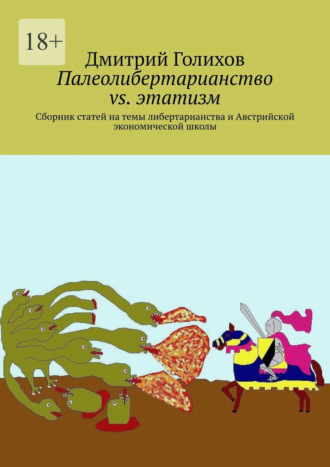
Полная версия
Палеолибертарианство vs. этатизм. Сборник статей на темы либертарианства и Австрийской экономической школы
За век социализма естественные социальные институты и культурные особенности нашего общества настолько сильно были изменены насильственным путем, что мы сами не замечаем, что несем в себе элементы этой искусственной морали, а также ухитрились заразить весь мир этой заразой. Марксисты в своем стремлении облагодетельствовать большую часть населения за счет меньшей – смотрят в ближайшую перспективу, забывая об отдаленном будущем. Сегодня они ограбили «кулаков», накормив их запасами всю местную бедноту, а завтра грабить будет уже некого и наступит голод.
Обычно в праксеологии любят рассматривать гипотетический юморной пример про некую страну Руританию, в которой, например, не любят рыжих людей (любимый пример Мюррея Ротбарда). Исходя из этого, в каждом поколении убивают определенное небольшое число людей. Утилитарист (тот, кто считает, что моральная ценность поведения определяется его полезностью для большинства) при этом замечает, что это не страшно, так как большинство населения остается довольным тем зрелищем, которое создает казнь рыжих, и это успокаивает психологически общество, социальные издержки этого не велики. Либертарианец же, который чтит естественное право и оценивает с этих позиций справедливость действия – будет возмущен из-за неоправданного применения силы к человеку, который не делает ничего дурного, несмотря на все преимущества подобного рода действий для остальных людей.
Право на свое тело следует из того, что никто бы в нашем мире не выжил, если бы должен был спрашивать у других людей разрешения на свои действия, каждый свой шаг. Пока всех опросил, можно ли попить водички – умер от жажды. Право на собственность первого владельца вещи следует из того, что, например, рыболов имеет право на пойманную в общем океане рыбу по факту совершенной работы, это очевидно. Скульптор имеет право на созданное из глины творение, ни у кого этот факт не вызывает сомнения. Все то же самое относится и к земле – первый владелец имеет право ее сделать своей собственностью по тому же принципу, после того, как, например, устроит там хозяйство, начнет растить урожай, огородит или поставит дом. Нет никакой разницы между бизнесменом, который зарабатывает на перепродаже акций и рыбаком, который ловит рыбу в океане. Они оба должны обладать одинаковыми естественными правами распоряжаться своим телом и имуществом. Те, кто утверждают обратное – идут против здравого смысла, заложенного самой природой человека.
8. Интеллектуальная собственность
Интеллектуальная собственность – очень широкое понятие, включающее патенты, права на средства индивидуализации, секреты производства, и так далее. Что-то из этого – и правда может быть оспорено, но уж права автора на результаты интеллектуального труда всяко имеют основание ничуть не меньше, чем при создании, например, чего-либо своими руками. Это прямое следствие естественного права на свое тело, контракты и результаты труда, которые были получены из владения всей этой своей собственностью (включая работу своего тела, мозга), это тот же самый основной либертарианский принцип. Противники договора оферты с целью защиты авторского права просто не понимают природы самого понятия интеллектуальная собственность, тут созданное носит не вещественный характер, поэтому требует другого подхода. Можно спорить насчет патентов или средств индивидуализации – здесь все не так уж однозначно с точки зрения того, что нет прямой связи между созданным и невозможностью другими создать что-то подобное, хотя и те же патенты тоже могут быть актуальны, так как очевидно, что, скорее всего, все же конкуренты наиболее вероятно «скоммуниздят» изобретение, а не случайным образом придумают что-то аналогичное, и поддержка Мюрреем Ротбардом тех же патентов весьма, и весьма логична во всяком случае. Что же касается права автора на результаты труда, то здесь все намного банальней. Природа созданного не аналогична имущественной собственности, здесь не играет роли количество, а только качество созданного, потому как ее легко можно скопировать из-за ее невещественного характера, и нужно защищаться именно от возможности ее незаконного копирования, что прекрасно выполняет тот же договор оферты.
Многие считающие себя либертарианцами люди отвергают понятие интеллектуальной собственности по причине того, что оно не связано с понятием собственности как таковой, подразумевающей ее материальный характер. Их вводит в заблуждение, прежде всего, то, что либертарианские концепции часто строятся вокруг понятия собственности, но значительно реже затрагивается понятие договор.
В действительности понятие договора имеет более принципиальное и первичное значение, чем понятие собственности. Собственность – просто частный случай договора, в котором ее может и не быть. Бывают же трудовые договора, агентские, брачные контракты, где может также не быть никакой собственности, а только предписание на конкретные действия. Что же тогда, за необходимостью сотрудником выполнять служебные обязанности стоит видеть угнетение?
Все, что может быть выражено словами – может иметь и какой-то договор. Скажем, в Штатах можно заключить его так, что в случае измены жена лишается того-то и того-то. Договор – это просто выраженное намерение, собственность не обязательно будет в нем упомянута, главное – его юридическая конкретность. Чтобы юрист мог признать его силу. Хотя, если речь идет о «джентльменском соглашении», то даже это может быть не обязательным.
Оферта на нераспространение интеллектуальной собственности – такой же случай договора, как и брачный контракт с опцией штрафа за измену, если таковая будет зафиксирована. И некто может получить деньги как на продаже «тачки», фильма за его авторством, так и за то, что супруга нарушила брачный договор и изменила ему. Никто не вправе нарушать заключенный договор, потому с момента принятия оферты, запрещающей тиражирование материалов – нельзя их копировать не потому, что они есть собственность (интеллектуальная собственность – это отдельное понятие, не относящееся к ней согласно нашему законодательству), а потому, что это – договор. И его нарушение должно иметь какие-то последствия по понятным причинам. Нарушил договор = украл. Нет никакой разницы, в результате нарушения договора была украдена собственность или нет. В случае с изменой жены тоже не было пропажи собственности, но штраф прописан в контракте. Воровство – частный случай нарушения договора.
Люди сами оценивают, что для них важно, а что – нет, и их оценки субъективны. Где-то они готовы и деньги заплатить за какие-то не просто нематериальные вещи, а вообще не пойми за что. Скажем, был известен случай продажи замка вместе с привидением, можно на аукцион выставить свою удачу и ее кто-то может купить.
Если же мы зацикливаемся только вокруг собственности и игнорируем авторское право, то выходит, что мы отказываем людям в праве заключать добровольно договора, что есть грубейшее нарушение либертарианского принципа. То есть, подобные либертарианцы являются либертарианцами только относительно собственности, и коммунистами по отношению ко всему остальному, на что еще могут быть заключены договора. Аргумент, что скачавшие с Интернета украденное люди ничего не украли – ложен, так как они являются соучастниками нарушения первичного договора между автором и тем, кто его незаконно скопировал. Аналогично перепроданные украденные часы нужно вернуть первому владельцу, так как их использование нарушает первичный договор, что они являются собственностью первого владельца. Мне, например, в этом смысле нравится, как действует право автора на свою музыку в социальной сети «Вконтакте»: там просто удаляют те треки, которые были скопированы незаконно, и оставляют другую, бесплатное прослушивание которой не вызывает протестов авторов.
Достаточно хитрой чертой многих «леваков» является то, что они соблюдают право собственности, но не соблюдают договора, через что эту самую собственность и воруют. Это как в анекдоте про Чапаева, что он играл в карты с англичанами в частном джентльменском клубе и проигрался «вдрызг», но тут услышал, что открывать карты не обязательно, все джентльмены и верят друг другу «на слово». И тогда он рассказывает: «Вот тут-то мне „пруха“ и пошла, Петька». Понятно, что правила карточного клуба в таких ситуациях подразумевают жесткие санкции в отношении шулера, но собственность здесь опять не причем, нарушен был просто договор на честную игру. Можно привести пример цифрового ключа от сейфа, где деньги лежат. Опять никакой собственности, но как быть с договором с охранником не говорить никому комбинацию цифр?
Договор на продажу – частный случай договора, он подразумевает какой-то рынок и оборот, а уж что продавать и покупать – это решать тем, кто его заключает. Здесь фантазия может просто придумывать оборот совершенно невообразимого: «продажа звезд», «лойсов», «воздушных поцелуев», персонажей компьютерных игр. Вовсе не обязательно все это должно быть собственностью. Рынок услуг также ее не имеет, но из этого не следует, что, получив деньги – можно не исполнять то, за что они были заплачены (например, за починку примуса), так как это – договор.
То есть, рынок слишком многообразен и регулируется договорами, а не собственностью. Она – просто частный случай. Договор на запрет копирования своего фильма – такой же договор, как и на починку или продажу примуса, продажу привидения в придачу к замку.
Вообще же, в этой главе я сознательно не стал путать читателя с начала ее повествования, но понятие собственности согласно Мизесу и его праксеологии (наука о сознательной деятельности человека), ее подразделу – экономике (наука о преследуемых человеком целях) – должно пониматься несколько иначе, чем в законодательстве отдельных стран. Под ним подразумеваются просто услуги, которые можно извлечь из обладания каким-то благом, и правом владения которыми должно обладать частное лицо. Думаю, что в этой трактовке – написанная автором книга является не только благом, но и собственностью. Из чего также вытекают все права автора на распоряжение ею по своему усмотрению, как и любой другой собственностью, такой как автомобилем, домом, телефоном, и тому подобным.
9. Искусственные монополии, палеоправила и естественное право
Если задуматься на тему естественных прав людей и того, как они получают реализацию в мире через палеозаконы (сформировавшиеся естественным путем правила), то на ум приходит ассоциация с игровыми видами спорта. Вот, например, баскетбол: запрещены «пробежки», «двойное ведение мяча», а за грубый контакт с телом соперника полагаются штрафные баллы: фолы. В случае набора пяти фолов – игрок покидает площадку. То есть, есть какое-то представление об естественных правах игроков, что, например, нельзя причинять умышленный вред их телам. Каждый грубый контакт трактуется в пользу кого-то из игроков, либо признается в данной ситуации обычным игровым моментом. Права собственности на вещи здесь выражаются в праве владения мячем: определенные вещи с ним делать можно, а за другие на владельца накладываются санкции.
В хоккее существуют другие правила, и в нем игрокам позволяется намного больше делать по отношению друг к другу: силовые приемы, захваты, можно даже прижать противника к борту хоккейной коробки, нередки драки. Драки штрафуются удалениями с площадки на различное время, но они все же воспринимаются, как что-то обыденное. В баскетболе и футболе за это же удаляют с поля до конца игры, штрафуют и можно получить многоматчевые дисквалификации.
Отдельные, наиболее грубые действия в командных видах спорта караются пожизненной дисквалификацией. Стоит отметить, что в примитивных обществах практиковали иногда командные игры, в которых естественно право не чтилось, и все заканчивалось ритуальными убийствами, например, у некоторых племен индейцев.
Палеозаконы примерно так же позволяют людям жить в рамках естественного права по определенным общим правилам, но есть и общества, в которых они не чтутся. Обычно они, рано или поздно, но уступают место более развитым обществам и народам, либо устраняют эти вредные «традиции».
Согласитесь, что было бы немного смешно, если баскетболисты стали бы судиться арбитрами по правилам хоккея, и наоборот (но для любителей таких зрелищ все же есть, например, слэмбол). По той же причине нельзя выработать единые для всего мира общие правила справедливого поведения. Они в любом случае будут иметь несколько разное наполнение, в зависимости от региона. В естественных условиях они и так конкурируют между собой, и, тем самым, влияют друг на друга. Дубай, будучи вотчиной арабских консерваторов – стал внезапно таким, достаточно либертарным местом на планете, чего всем этим, значительно более либеральным народам добиться не удалось. Почему не удалось? Потому, что если все резко разрешить или запретить, то это означает просто изменение правил, через которые люди могут, например, терять собственность, деньги, права: нельзя было выгуливать собак на газоне возле дома, но вдруг резко разрешили, и рынок пришел сразу, бизнес зацвел. :) Такое новое правило едва ли даст какие-то преимущества, скорее – только грязно будет на улице.
Если разрешить силовые приемы в баскетболе, то не факт, что это добавит игре каких-то преимуществ, но, например, видеоповторы – все активнее используются, так как это очевидное конкурентное преимущество вида спорта, так как гарантирует более качественный арбитраж.
Точно так же нельзя заставить мусульман разрешить свободное распитие спиртных напитков на своих землях, если они сами этого не хотят. В Техасе нельзя требовать убрать «ружья повсюду», даже если вы – редкостный хоплофоб.
Короче говоря, все лучшие законы соседних народов имеют свойство заимствоваться другими в результате конкуренции, но если на федеральном уровне их же «пропихивать», то это просто даст нам ситуацию монополии на принятие решения, которая создаст «взбесившийся принтер», что просто так множит законы, без всякой причины.
Большинство либертарианцев видит проблему этатизма в государстве, но они ошибаются, причина – в искусственной монополии, то есть – привилегии. Государство работает плохо потому, что его нельзя заменить другой юрисдикцией, а не потому, что оно – государство, и «жрет» наши налоги. Аналогично, если мы создаем привилегии для одной частной фирмы, что только она будет нам поставлять автомобили, например, а остальным фирмам мы это запретим – рано или поздно, но они станут плохими и некачественными «тазами». С советских времен автолюбителей приучили, что автомобили – это всегда очень дорого и неэффективно, предмет роскоши. Сперва все дело было в «железном занавесе» и дорогих, неконкурентных на мировом рынке местных «ведрах» неэффективного социалистического госпроизводства, которые к тому же было не так просто приобрести. В 90-е пришли мировые автоконцерны, но их тут же обложили налогами и пошлинами. Понятное дело, что так просто лишаться привычной монополии на транспорт и сверхприбыли от этого государство не захотело, и до сих пор если и пускает мировые концерны, то с «драконовскими поборами» за каждую услугу (что в конечном итоге удорожает стоимость автомобилей примерно до цен на недвижимость). Тем более, что ему снова дали повод установить более прочный «железный занавес» для автопрома в связи с санкциями и прочим. Где есть искусственные барьеры государства между производителем и потребителем, там есть и способы их обхода, к одному из них, параллельному импорту, позволяющему снижать стоимость автомобилей за счет снижения таможенных расходов, снова пытаются подобраться. Федеральная таможенная служба стала массово рассылать владельцам требование о доплате в казну сотен тысяч рублей. Понятное дело, что такие схемы могут демонополизировать сферу и лишить государство привычных ему монопольных сверхприбылей «из воздуха», потому не приходится удивляться тому, что внезапно появился очередной побор с автовладельцев на такие суммы, а неплательщикам грозит аннулирование регистрации в ГАИ – это все продолжение «советских традиций доения автолюбителей».
Искусственная монополия наиболее сильно «раздувается» именно через государство потому, что у людей есть свойство хотеть безопасности, именно это свойство создает повсюду «государства всеобщего благосостояния» со всеми их этатизмами.
Индивидуальность палеоправил нужна для того, чтобы создавать конкуренцию между народами. Так лучше видно, чьи законы обеспечивают лучшее развитие обществ, кто лучше способен обеспечить исполнение естественных прав людей: распоряжаться своим телом и собственностью.
В среде либертарианцев очень популярен дискурс на темы того, что только анархо-капитализм с полным уничтожением государства может дать людям свободу в принятии решений, остальные формы презрительно называют минархизмом, «минимальным социализмом». Но какая разница: государство или частная защитная организация будут предоставлять услуги на защиту? Как это назвать – уже не суть, главный вопрос – есть ли добровольные контракты с ним людей, или услуги «впихивают» без них, насильно. Налоги, подтвержденные контрактом – не грабеж. Грабеж – то, что их берут без какого-либо добровольного соглашения с людьми, контракта.
«Анкап» или минархизм – вопрос выбора людей, тут главное – есть ли добровольность? Это вопрос из категории: заключать ли договор с данной сантехнической организацией, или какой-то другой, или, черт с ним, сами справимся. Если мы соглашаемся нанять сантехника, то это – минархизм, а если сами справимся – то «анкап». Люди собрались, решили, что им надо из этого. И почему-то думают, что если они хотят нанять, то это уже плохо, минимальный социализм или как-то так. В действительности же нам просто желательно иметь качественный арбитраж третьей стороны, чтобы контракт защитной организации и людей соблюдался, если есть намерение двух сторон его заключить. Если там будет какая-нибудь добровольная коммуна и налоги, коллективная собственность – это не является проблемой, пока в эти отношения не будут насильно вовлечены те, кто не хочет в них вовлекаться. Понятно, что это – «дичайше» неэффективный способ существования, но нельзя запретить людям «упарываться», если это – их приоритетный способ существования. Как и нельзя тем же амишам запретить воспрещать для своих сообществ электричество.
10. Юридические лица, персональная ответственность и бюрократия
Никто не задумывался на тему того, зачем нужны юридические лица? Ответ прост: чтобы платить налоги государству. Все эти фирмы были созданы только для того, чтобы государству было удобнее получать свои налоги в максимально возможном количестве, которые оно получает не через добровольный договор, а лоббирует через нужных ему политиков.
Что такое юридическое лицо? Это существо, не обладающее индивидуальной ответственностью. Можно взять деньги в долг, а потом обанкротить фирму. Можно разместить облигации на бирже, а потом предлагать покупателям реструктурировать долги на невыгодных условиях и они, скорее всего, на это пойдут, иначе не вернут вообще ничего, особенно если вложена была несущественная сумма, которая не стоит того, чтобы ради этого судиться.
Если в результате действий юрлица гибнут люди, то ответственность ложится на фирму, репутации которой наносится урон. Но он все равно несопоставим с тем уроном, который был бы нанесен, если бы ответственность, скажем, за катастрофу авиалайнера – ложилась не на какую-то там корпорацию, а персонально на физическое лицо, которое является его собственником. К тому же, можно очень легко уничтожить одно юрлицо и создать новое, с «чистой» историей.
Древнеримские юристы не считали юридических лиц существующими особыми субъектами. Считалось, что носителями прав могут быть только люди.
Такого понятия, как «юридическое лицо» – в римском праве не существовало, в латинском языке даже не было специального термина для обозначения организации. Римские юристы признают только факт принадлежности прав различным организациям, но организации сравнивались с физическим лицом, при этом отдельно разъяснялось, что организация действует вместо конкретного человека (personae vice), заместо отдельных персон (privatorum loco).
Вопрос правосубъектности средневековых торговых корпораций создавал собой проблему, разрешение которой оказывалось затруднительным для юристов того времени, так как в римском праве, к которому они обычно обращались, идея юридического лица не получила сколько-нибудь значительного развития. Юридическое понятие корпорации впервые появилось у глоссаторов, которые исходя из выдвинутого римскими юристами положения о том, что всё принадлежащее корпорации не принадлежит её отдельным членам (quod universitatis est, non est singulorum), пришли к выводу о необходимости исключения из понятия корпорации всякого представления об индивидах, поскольку корпорация сама по себе есть нечто целое, самостоятельное и индивидуальное. То есть, они наделили тем самым правами собственности неодушевленное лицо. Есть разница, что ООО «Рога и копыта» заключает договор с вами или Иван Иванов, Петр Петров и Сидор Сидоров, именуемые в дальнейшем «организация такая-то» заключили договор о нижеследующем…? Она огромна: в первом случае вы имеете дело неизвестно с кем и с чем, во втором – с конкретным человеком, который заключил договор и выступает ответчиком за заключенный контракт.
Папа римский Иннокентий IV выдвинул идею о том, что корпорации являются «фиктивными лицами». Отвечая на вопрос о том, можно ли отлучить от церкви корпорацию, в своей речи на Лионском соборе в 1245 году Иннокентий IV выступил с заявлением, что всякое отлучение распространяется на душу и совесть, и поэтому нельзя отлучить от церкви корпорации, у которых нет ни души, ни совести, ни воли, ни сознания и которые являются лишь отвлечёнными понятиями (nomen intellectuale), правовыми наименованиями (nominа sunt juris), фиктивными лицами (persona ficta).
Суть в том, что сейчас юридические лица – это какая-то глупая бюрократическая необходимость. Это всегда куча отчетности, огромная бухгалтерия и много всего ненужного, что лишь проедает ресурсы владельца. К чему это приводит в конечном итоге? К тому, что все эти фирмы, став крупными концернами – стремятся тут же найти альянс с политиками, чтобы получать заказы от государства, то есть, существовать за счет искусственной монополии, привилегии. А куда им деваться, если штат у фирмы большой (всех этих «просиживателей штанов»), аренда офисов недешевая, налоги грабительские, а конкуренция меньше тоже не становится? Есть, конечно, успешные корпорации, не существующие за счет государственных заказов, но они – только часть всего. Качество произведенных товаров же корпораций-юрлиц – отчего-то также часто не растет, а только падает. Почему их новые автомобили обладают дефектом дороговизны и неудобства обслуживания в автосервисах (вплоть до того, что в некоторых моделях, чтобы поменять лампочку «поворотника» – нужно разобрать полкабины)? Потому, что издержки слишком велики и их надо хоть как-то компенсировать. Конкуренция не работает на улучшение продукта потому, что все корпорации сперва озабочены тем, чтобы просто выйти в хоть какой-то «плюс» и не разориться «всеми правдами и неправдами». У одной фирмы плохая машина, но у другой-то – еще хуже и дороже в обслуживании.
Что было бы, если бы не было навязанной государством необходимости создавать юридическое лицо? Была бы индивидуальная ответственность человека за совершенные действия. Уже не было бы так, что некая фирма «Рога и копыта» размещает облигации, а потом не возвращает деньги. Было бы так: Иван Иванов взял деньги в долг и не хочет их возвращать. Вы чувствуете разницу? Ни у кого не возникает даже тени сомнения, что он – мошенник, несет персональную ответственность за свои действия. Возможно, что на сто лет вперед никто не захочет иметь дел не только с ним, но и с его потомками. Как, скажем, в той же Шотландии в отдельных горных районах и сейчас никто не подаст руки представителю клана, фамилия которого начинается на «К» за все те дела, которые они совершали тысячу лет назад.
«Не следует множить сущее без необходимости», необходимости понятия юрлицо попросту не существует. Это лицо, которое ни за что не отвечает. При этом те, кто его создали, вынуждены содержать бухгалтерию, смысл которой далеко не всегда оправдан. Бухгалтер – это сейчас чаще даже шпион государства внутри фирмы. Должность, часто не дающая никакого «профита» владельцу, а только лишь возможность откупиться от государства с его больной бюрократической фантазией на тему бумажек и налогов (во всяком случае, их берут обычно именно для этого в таких количествах). Более того, я лично часто замечал, что бухгалтеры почти всегда требуют, чтобы вся фирма работала не столько на прибыль, сколько, чтобы у них не было проблем из-за бумажек с государством. Выглядит это обычно до смешного комично. Допустим, что есть некий лидер продаж Иван, который заключил массу договоров и принес фирме большие «барыши». И вот, именно его обычно «вызывает на ковер» бухгалтер и «материт» до тех пор, пока ему не удается в Иване как-то отбить желание «создавать проблемы»: чтобы он или меньше сделок заключал, или вообще уволился из компании. Лично я наблюдал эту «картину» во многих фирмах, с которыми имел какие-то дела. В конце концов, если нужны какие-то штатные сотрудники, то куда, как полезнее было бы, например, держать штатного юриста какого-то, который помогал бы решать недоразумения с партнерами, если бы они возникали. Бухгалтеры бывают полезны для каких-то расчетов, договорных отчетностей перед инвесторами и взгляда на состояние дел, когда это нужно владельцу, но не в таком количестве, как это есть сейчас, и далеко не всегда. Ресурсы владельца всегда ограничены и вполне вероятно, что он предпочтет, скажем, обновить свое оборудование или нанять бизнес-консультанта, нежели вести точный учет дел и содержать лишнее рабочее место бухгалтера на имеющиеся у него ресурсы. Это право предпринимателя и должность бухгалтера должна быть конкурентной другим должностям, а не навязываться государством извне для своих нужд контроля доходов.