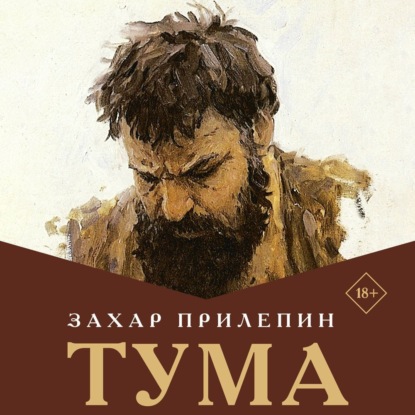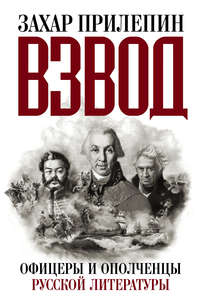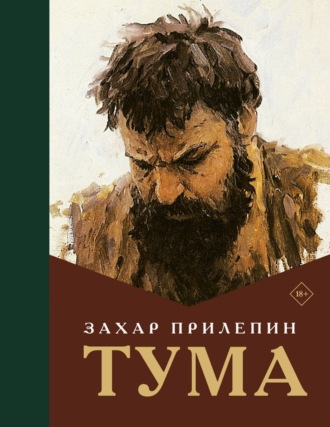
Полная версия
Тума
– Араа йад мусташар аль хаким. Фи хамсат асабия, фи хауатим иль аль асабия. Аль хатим фади ма зумруд, аль хатим захаб ма хаджар яхунт (Руку советника правителя, и на ней персты, их пять, а на перстах – кольца. Одно с изумрудом, из серебра, а другое с яхонтом, золотое. – араб.), – перечислил Степан.
– То иле нажечы ты знашь? (И сколько наречий ты знаешь? – пол.)
Степан покусал ус.
– Знам тэ, на ктурых муве. Ежели нема обок никого, з ким помувичь, не вспоминам тых нажечы. (Знаю, на которых говорю. Если рядом никого нет, с кем говорить, я не вспоминаю тех наречий. – пол.)
– Сен бу лисанларны аселет эзберлегенсин, шейлер ве маллар чешитлерини ахылында тутуп? (Ты выучивал наречия, запоминая товары или прозванье скота? – тат.)
– Буны эр бир казак билир. (То умеет всякий казак. – тат.)
– Как же ты познал языки? – по-русски спросил советник, наконец, глядя в глаза Степану.
Степан задумался.
– Памятлив, когда песни играют. Слов поначалу не ведаю. Но если помнить, как играли песню, она тянет слова. Так сеть тянет рыбу.
Советник посмотрел на пашу, и, побуждённый взмахом ресниц, весьма точно перевёл паше сказанное Степаном на османский.
VЗа четыре дня до конца того сентября казаки разъезда, возвращавшегося с Приазовья, едва завидев черкасские валы, начали палить в небо.
– Никак турок до нас собрался… – перекрестился мелким крестом молодой казак Прошка Жучёнков.
– Благоду, чудаче ты… – ответил дед Черноярец. – Благоду несут…
Стоявшие на валу вглядывались в идущий намётом разъезд – и вскоре самые зоркие углядели:
– Смеются!..
– Полдня есть, чтоб поплясать, – сказал дед Ларион. – Апосля – битых считать… – здесь он сильно ткнул посохом своим в землю. – Увёл Господь от поруганья любезных своих казацких деточек!
…явившиеся вестовые, все будто охмелевшие, кричали, заезжая в раскрытые ворота:
– Осадное войско пошло вспять! Побросали барахло своё! Пушки оставили! Калечных кинули, нехристи… Бегут поганые!
Черкасские жёнки, старики, малолетки – возопили.
Вдарил колокол – и тут же как покатился с горы, трезвоня о все свои медные бока.
Гулко лаяли собаки. Со всех куреней бежали люди к майдану.
Вослед с разъездом прибыл до городка первый посланец из самого Азова-города: вынесший вместе со всем воинством девяносто три дня осады есаул Корнила Ходнев.
Вид его был – будто Корнилу высушили, как горотьбу, потом опалили, а потом высекли лозой по лицу.
От прежнего Корнилы остались лишь два чёрных живых глаза.
– …плачьте, отцы, плачьте, братья, плачьте, жёнки, – сказал Корнила: у него и голос был сипой, будто обгорелый. – Небитых средь нас нет. Есть не до смерти битые, и нас три тысячи. Сильно поранены многие, жизнь истекает из них. Есть битые до смерти, их те же три тысячи… А всё ж удержали Азов от поганства!
Тимофей Разин вернулся наутро, весь как из адова огня.
На дворе имелся у них огромный чан, туда и уселся нагой отец.
Оцепенев, застыл, недвижимый, в мыльной воде.
Отцовские глаза были закрыты.
Время спустя велел Матрёне:
– …зови сынов.
Мевлюд нагрел сменной воды.
Иван и Степан взяли по черпаку.
Старший зачерпнул и коснулся парящей воды краем ладони:
– Горяча, бать.
– Лей потихоньку, – сказал отец.
…сидел, не отирая лица и отекающей пепельным цветом бороды.
Пробитые дробью отцовские щёки были теперь в жутких ямках, куда мог поместиться пальчик младенца. На боку виднелся грубо зашитый, кривой, неподсохший сабельный шрам, вывернутый наружу подкопчённым мясом. С незажившего плеча свезена стружкой кожа. Ладони его были разбиты, как камни.
Сколько ни лили, тело отца не теряло черноту. Он будто изнутри был преисполнен гарью.
Куры копошились возле купели и бросались на выплёскивающуюся воду.
– Подайте рушники, – попросил наконец отец. – К столу иду.
Тимофей произносил позабытые им слова, и самый язык его удивлялся им.
Ходил так, будто у него были понадорваны все до единой жилы.
За столом обильно солил съестное и жевал так долго, что у Степана, искоса следившего за отцом, начало ломить виски.
Улёгшись, отец, не шевелясь и будто не дыша, проспал остаток дня, всю ночь и до полудня.
Лишь раз со вскриком уселся, шаря рукой отсутствующую саблю. Оглядел курень с бешеной мутью в глазах – и снова замертво рухнул, подняв на лавку только одну ногу, а вторую так и не дотянув: упёртая каменной пяткой в пол, она чернела сбитыми ногтями.
…в Черкасске пахло ухой. По всем куреням и землянкам готовили кутью. Начинался помин по павшим.
Выходя с одних поминок, казаки брели на другие.
В одних куренях рыдали, в иных землянках уже пели – с-под земли раздавались тягучие голоса.
Дед Ларион, перепутав помины, прибрёл в затравевший, кривой курень Васьки Аляного, которому – хоть и пробило голову камнем, и в грудь, над сердцем, не зайдя глубоко, ткнула стрела, а по виску чиркнула пулька, – ещё не пришла пора сгинуть.
Очередную жёнку свою, как вернулся, Аляной согнал прочь, и снова зажил один.
Разглядев заране, кто к нему хромает, Аляной сдвинул под икону лавку и улёгся со свечой в руках.
Ларион, войдя, сощурился, вглядываясь, где ж его место, – и, в темноте не разобравшись, кряхтя, пристроился возле покойника на пустую кадь, покрытую старым турецким ковром.
– Господи Бозе, – пожаловался он и перекрестил рот, – не то все сбежали куда?
– Пляшут на базу, чтоб никто не подглядел… – подсказал Аляной.
– Да ну? – не согласился дед, и в тот же миг шумно, как вспуганная птица, встрепенулся.
Аляной приподнял свечу, разглядывая деда сквозь мертвецкий прищур. Ларион духа не растерял. Выдохнув, вгляделся в мертвячье лицо, мерцающее в свете свечи, и засопел, раздумывая.
– …в темечко тяжко поранило, Васятка? – спросил.
– …нет, дедка, – ответил тот. – …живых зреть нет мочи.
Дед, сопя, поразмыслил над сказанным и вдруг прихватил двумя пальцами Ваську за ногу, проверяя:
– А сам ли вправду живый?
– Вот и я гадаю… – еле терпя беспощадные, как кузнечные клещи, стариковские пальцы, тянущие его мизинец набок, проскрипел Аляной.
Сразу три тысячи казаков закопали в огромном рву, на Монастырском урочище, неподалёку от Черкасска.
Ещё пахло мертвецами – иные из казаков раскисли, утратили облик, и, когда их спихивали в яму, лопались, текли.
Разом ушли под землю многие возы казачьих костей, стылые сердца, ледяные очеса, всё вповалку…
Степан шёл вдоль засыпанного рва.
Миновал полный круг – и, как заснувший, двинулся на второй, но Иван поймал за руку:
– Не кружи, – сказал.
…нудно, тягостно пел рыжебородый поп Куприян, будто собственным кадилом ведомый, и едва за ним поспешающий…
Спустя три дня старший Разин, забрав сыновей, отправился в Азов.
Шли на своей бударе, безбоязненно.
…явился, тяжело раскоряченный на холме, злой город: схожий с огромным, побитым на куски каменным арбузом.
Над чёрными, изуродованными стенами трепетали горелые казачьи прапора.
…от причала, полного разномастных казачьих судов, шли с отцом к набычившемуся почернелому Азову.
…вокруг всё хранило знаки недавнего нахожденья здесь бессчётного воинства: перерытая земля, сотни поломанных возов, поваленных, драных шатров, человечьи и лошадиные останки, огромные ворохи тряпья – несусветная помоища.
Высились размётанные в половину – и всё равно внушительные холмы, возведённые погаными у стен.
Миновали, ступая будто бы по воску, выжженные в чёрный хлам посады.
Ветер катал отсыревшую золу.
…ров, где так и лежали тела тысяч побитых магометян, был до средины засыпан землёй и забросан камнями – и всё равно выглядел глубоким, как русло высохшей реки. По тому рву, как в диковинном птичнике, ходили ожиревшие вороны, бородачи, чайки, переругиваясь на многие голоса. Над ними висели тучи изумрудных мух. Кое-где из-под земли торчали воздетые руки, оскаленные, расклёванные хари.
Прежний мост к воротам был обрушен – его наскоро чинили.
…шли навстречу, повсюду сновали, рылись в земле русаки с засечной черты, астраханские татары, весёлые хохлы. Попадались московские, выглядывающие своё, торговые гости.
Мастера, нанятые с верховых руських городов, уже сбивали новые, вспыхивающие древесной белизной, ворота.
…поднявшись на городскую, у самых врат, стену, Разины увидали руины Азова-города.
У жилищ, что крепились возле самых крепостных стен, не осталось ни одной крыши: все были разорены, как мёртвые ульи.
Азовские сады, видневшиеся то здесь, то там, выгорели. Торчали обгоревшие метёлки яблонь, груш, черешень, едва отличимых друг от друга. На задувающем ветру чёрные их ветви не двигались.
Все видимые отсюда здания были покрыты сажей, жестоко поранены, а пробоины в них были столь огромны, что в иную прошла бы и лошадь.
Высились минареты, один из которых казаки определили в пожарную каланчу.
Виднелись простреленные купола азовских церквей Иоанна Предтечи и Николая Угодника.
Из нарытых лазов вдруг являлись казачьи головы в ярких шапках: принимали кирки и лопаты, передавали наверх оружие.
Вокруг месили растворы, пилили, стругали дерево, ворочали камни. Повсюду горели костры.
По битым ступеням поднялись на смотровую башню.
Увидели в одной стороне столько расстеленной Господом от восходного края неба до заката степи, сколько прежде не видели никогда.
В другой стороне рассмотрели базарную площадь, где посреди сущего разора уже выкладывали свои товары купцы той породы, коим и чёрт не брат.
Меж базарных рядов ходили осадные атаманы Осип Колуженин сын Петров и Наум Шелудяк сын Васильев, а с ними войсковой дьяк и есаул Федька Порошин.
Осип-атаман родился под Калугой, и по роду был – русский мужик. Наум-атаман родился в Нижнем Новгороде и тоже был из мужиков. И Порошин был беглый холоп, пришедший с подмосковного имения государева стольника.
Низкорослый, неспешный, крепкий, Осип волос имел жёсткий, русый, а бороду – кудрявую, непослушную. Уши его казались прижатыми к голове так близко, словно их прилепили. Глаза были глубоко загнаны в голову. По челу его шли не только поперечные морщины, но и вдольные, делившие лоб на багровеющие шишки. Говорил Осип высоким, скрипучим голосом, как колодезный журавль.
Наум был его на две головы рослей, а бороду стриг коротко. Худощавый, рано поседевший, круглоглазый, говорил он густо, неспешно, будто каждое слово в нём должно было вылупиться из деревянного яйца. Давил из себя голос, как смолу.
Осип, сменив Наума, верховодил Донским Войском, а бывший войсковой атаман, Наум, сбирался с дьяком Порошиным и станицей казачьей в первопрестольную Москву – молить государя взять Азов-город под царскую руку свою.
…глотая ветер, щурясь слезящимися глазами, ещё не разумом, но сжавшим горло предчувствием Степан навек догадался: нет большей радости, чем имать города и ходить там хозяином.
И финики кидать в рот, медленно жуя. И купеческие ряды ждут, когда ты договоришь с есаулом, желая тебя угостить, подольститься к тебе.
Хочешь – сам володей городом. Хочешь – царю принеси в дар, как финик.
…ударил колокол. Отозвался другой. То перекликивались Иоанн с Николаем.
Казаки вернули голоса колоколам азовским.
VIНа другой день Степану в темницу занесли две корзины.
В одной – снедь: морква, луковиц и чеснока помногу, и несколько лепёшек, и сыра полкруга, и бараний бок, и вяленых лещей дюжина.
В другой – овечья шкура, тёплые шаровары и рубаха, и татарский халат, а в кармане – малый кошель, и там мелкие османские монетки.
Степан кликнул ляха. Тот, помедлив, отозвался.
– Чы жичы собе вачьпан рыбы и пляцка татарскего? (Не угодно ли пану рыбы и лепёшки татарской? – пол.) – спросил.
Лях, снова помолчав, ответил сдержанно, но неспесиво:
– Дзенкуе, ясны пане козаку. Не мам потшебы. (Благодарю, пан казак. Нужды не имею. – пол.)
Тут и Минька явился, доволен.
Стал в дверях. Цыкнул зубом, стегнул, не оглядываясь, нагайкой по закрываемой двери.
– Экая вонь тут у вас… Абидка! – крикнул нетерпеливо.
Тот снова раскрыл дверь, услужливо выглядывая.
– Хызметчилер кельсин – бу ерлери сипирип-ювуп чиксынлар! (Приведи рабов – пусть выметут здесь, вымоют! – тат.) – велел строго. – Бундан гайры, яны легенлер кетир, эскилери тешик… Тазе пичен де кетир, языхсынма… Хапыны хапатма! Ачих халсын! (И другие лохани тащи, а то текут… Свежего сена сюда, не жалей… И дверь не затворяй! Настежь оставь! – тат.)
Постоял, задрав нос, дожидаясь, когда хоть чуть протянет сквозняком.
Степан, полулёжа, разглядывал его.
Минька был нынче в огромной чалме, в турецком дорогом платье; из-под широкого шёлкового пояса торчали две рукоятки кинжалов с золотой насечкой.
– А как разговорился-то, Стёпка! – воскликнул вдруг Минька. – Со мной – дерзок! А с пашой, да продлит Аллах его безмятежные дни – запел, запел… Мыслил, ты нетчик, и на кол пойдёшь, а со своего не сойдёшь! Не передумаешь… – засмеялся Минька. – А ты хитёр, казачина!..
…в проходе раздался шумный шорох: тащили сено. Едва протискиваясь в двери, тут же бросали.
– Слушай, Стёпка… – Минька подхватил пышную охапку, прошёл к Степановой лежанке, кинул себе.
Взял, не спрашивая, из корзины дарёную овечью шкуру. Постелил и с кряхтеньем уселся.
– Скрывать не стану… – начал Минька. – Надобно, чтоб ты, хоть хром, да пошёл поскорей. Чего лекарь сказывал за то?
– Сам бы и выспросил, – сказал Степан без вызова.
– А тебе и не любопытно! – оскалился Минька. – Ты ж как мыслишь, Стёпка: сразу не сгубили – должно, желают приспособить для своих азовских дел. Получается, никакой выгоды тебе поспешать нету. Гладом не морят и держат в стенах – не в яме ж. Хоть и смердит, да в душу не задувает… Рожа твоя, Стёпка, гляжу, опала, – вгляделся Минька в Степана, – и зрак второй глядит, а то всё прятался.
Минька склонился к Степану и, щедро дыша жареной рыбой с луком, шёпотом поделился:
– Знатному мужу поведут на показ тебя. Нужда им, Стёпка, в толмаче! Да больно ты опухлый, и нога в деревяхе: дурной подарок – не войдёшь достойно, не поклонишься. Другу ногу тут же ж и поломают за такое… И мне заодно, обе. Ну?
Минька откинулся, глядя на Степана, как на базарный товар.
– Кланяться тож нельзя мне, – сказал Степан.
– С чего бы?
– Блоха с волосьев посыплется.
Минька собрал бабьи губы свои пучком, шевеля ими; так тянутся облобызать дитя.
– Как тебя расходить, Стёпка? – всерьёз спросил. – Ежели девку привести – побежишь? – Минька оскалил зубы, но не засмеялся.
Всякий раз вместо смеха Минька издавал глоткой сип, как испускающий дух.
…во дворе заскрипели, раскрываясь, ворота.
Забегала стража.
– По твою душу неверную явились, – Минька тут же поднялся, отряхивая задницу, хотя соломы на нём не было. – Нынче ожидает тя, Стёпка, великая для судьбины твоей встреча. Себе пагубу избрать, или долю лутчую, – сам решай уж.
Благообразный, с печальными глазами и бородой, шитой проседью, человек в зелёной чалме хаджи уже был в комнате, когда впустили Степана.
Ему позволили усесться на пол.
Мюршид кинул одну из подушек к Степану.
– Дедюклерим анладын? Кафир, меню ишитир мисин? (Понимаешь ли ты мою речь? Слышишь ли меня, неверный? – тур.) – спросил он.
– Бели, дуяр ве де анларым (Да, я слышу и понимаю. – тур.), – был ответ.
– Гёклери ве ери ярадан, каранлук ве айдынлуклары вар эден Аллаху теалая хамдолсун. Дедюклерими анларсун, текрар эдермисюн? (Хвала Аллаху, который сотворил небеса и землю и установил мрак и свет. Понимаешь ли ты сказанное мной, способен ли повторить? – тур.)
– Бели, ишиттим ве де анладым, текрар едебилирим (Да, я слышу, понимаю и способен повторить. – тур.), – ответил Степан.
– Аллаху теала бизи чамурдан яратты (Аллах – тот, кто сотворил нас из глины. – тур.), – бережно проговаривал мюршид каждое слово, словно обводя его языком и выталкивая наружу. – Аллаху теала хаят ичюн заман вермиш, ёлюм кюню белирлемиштир. Хамдолсун ки кыямет кюни де вардыр. Аллаху теалая инананлар тирилечектир. Кафир, текрар эдермисюн? (Аллах – тот, кто назначил срок для жизни и день для смерти. У него есть и день для воскрешения, хвала Аллаху. Все служащие Аллаху воскреснут. Сможешь ли ты повторить сказанное, неверный? – тур.)
– О бизи чамырдан яратты, хем хаят хеми де ёлюм кнюню белирлеендир. Кыямет кюню о билир. (Он – тот, кто сотворил из глины. Тот, кто назначил срок для жизни и день для смерти. Он знает и день воскрешения. – тур.)
– Кафир, ким сана тюрки окутту? (Кто выучил тебя языку, неверный? – тур.) – спросил мюршид, не меняя выраженья лица и голоса.
– Анамун тилидир (То язык моей матери. – тур.), – ответил Степан.
– Динле ве унутма. О гёкте ве ердеки Аллахтур. О оланлары ве оладжаклары билендир. Шинди дюшюндюгюню билир. Бени кандырмак истерсин, ону да билир. Ичинде олтугун кедер ве де каранлуктан нелер булаурсун, ону билир. Кафир, бени анларсıн? (Слушай же, и помни. Он – Аллах на небесах и на земле. Он знает всё. То, что ты думаешь в сей миг, знает он. И как хочешь обмануть меня, знает. Он знает и о том, что ты можешь приобрести из своего нынешнего горя и своей нынешней темноты. Ты понимаешь меня, неверный? – тур.)
Говоря, мюршид поднимал вверх обе руки и сначала как бы лепил шар, а потом вдруг сминал его. Пальцы его были белей лица. Хорошо стриженные ногти имели почти молочный цвет.
– Бели, ишиттим, анларым (Да, я слышу и слушаю. – тур.), – отвечал Степан, глядя на пальцы мюршида.
– Аллаху Теала сенин аклына гелмеэнлере де кадирдюр (Аллах способен на всё, о чём бы ни подумал ты. – тур.), – говорил мюршид, на сей раз будто взяв в руки незримый шар и медленно поднимая его к лицу. – Аллах Джелле, кулларына рахметинден нелери ачарса ону тутар, кимсе кысамаз (Никто не в силах остановить милость, которую Аллах открывает людям. – тур.), – мюршид отпустил бесшумно покатившийся по воздуху шар; пальцы его чуть подрагивали. – Аллаху Теала кадирдюр ве шерики ёктур. Ол дер, олур. Онун хюкмюнден ведахи газабындан кимесе качамаз. Догру му, кафир? (Аллах всемогущ и не имеет соперников. Он устанавливает то, что пожелает, и никто не убережётся от гнева его и не избежит его закона. Так, неверный? – тур.)
Степану казалось, что пальцев у мюршида больше, чем десять: так быстро они струились. Теперь он будто перебирал струны, и те струны рождали его покорительные слова.
– Аллаху теала биртир ве ондан башка танры ёктур, Аллах догмады, догурмады, онун тенги ёктур (Нет божества, достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, который не родил и не был рождён и которому нет равных. – тур.), – говорил он; выраженье его лица по-прежнему не менялось, и голос был ровен, как ток песка в часах. – Аллаху теалая иман саадетини калбинде тек танры олан херкес билюр. Гёклерде ве Ерде ве дахи икиси арасында хюкюм Аллахьундур. Истедигини яратыр. Аллаху теала кадирдюр, она чёллер, денизлер, бозкырлар энгел дегилтир (О счастье веры в Аллаха знают все, кто очистил своё сердце через единобожие. Аллаху принадлежит власть над небесами, землёй и тем, что между ними. Он создаёт, что пожелает. Аллах способен на всё, его путь не преградит ни пустыня, ни степь, ни море. – тур.), – мюршид чуть облизнул пересохшие губы. – Християнларун «Биз Аллах эвладыыз, онун севдиги кулларыз», дедюклерини дуярым, онлар кендилерине шуну сорсунлар: «Аллаху теаала неден онлара гюнахлары ичюн элем верир?» Биз неден олтугуну билирюз. Онлар севгили куллар дегилтир. Онлар Аллахын яраттıгı ама Аллахы гёрмеи беджеремеэн инсанлардан базыларытыр. Анжак онлар дахи севгили кул олабилирлер. Сен дахи Аллахун севгили кулу олабилирсюн (Я слышал, как христиане говорят: «Мы – сыны Господа и его возлюбленные». Пусть они спросят себя: «Отчего же Аллах причиняет им мучения за их грехи?» Мы знаем, отчего! Они – не возлюбленные! Они – всего лишь одни из людей, которых сотворил Аллах, но не сумевшие увидеть Аллаха. Но они могут стать возлюбленными. Ты можешь стать возлюбленным Аллаха. – тур.), – смотревший всё время своей проповеди словно бы сквозь Степана, вдруг вперился в него так, что Степан не смог отвести взгляд. – Дедиклерюми ишиттин ми? (Ты слышишь сказанное мною? – тур.) – мюршид снова облизнул губы.
– Бели, хепсини анларым (Да, и понимаю каждое слово. – тур.), – ответил Степан тихо.
– О халде, кафир, шуны бил ки; Аллаху теала истедюгини багышлар, диледюгини кедере гарк эедер. Аллаху теала истедюгинюн ярдымына пейгамбери Мухаммед саллаллаху алыхи весселеми гёндерюр. Санчаги алтунда дурмак истеэни керим Аллах мюкафакландырур (Тогда ты должен понять, неверный. Аллах прощает, кого пожелает, и причиняет мучения, кому пожелает. Кому пожелает, Аллах воздаст за помощь его пророку Мухаммаду. И щедро отблагодарит того, кто решится встать под знамёна Аллаха. – тур.), – мюршид зачерпнул рукой незримую воду, извлекая из той воды незримую послушную рыбу, не умеющую покинуть его руку.
Чувствуя тяжёлую томность, Степан ощущал, как с перебоями, то застывая, то спеша, бьётся зябнущее его сердце.
– Кюнлер ве геджэлер бою халаыны дюшинюп эзиет чекмектесин амма бенюм сана вердюгюм хабер чок даха севинчли (День и ночь ты скорбишь и тешишь себя мыслями о своём освобождении, но весть, которую принёс я тебе, куда более радостна. – тур.), – сказал мюршид, указывая в грудь Степана тонким прямым смуглым пальцем. – Гёктеки капуларун араландугы, зинданларун айдынландугы, мелеклерин гёрюндюги, пейгамберлерин ве елчилерин гёзлеринин ачылдугы бир неджаттан бахседиерум! (Услышь же слово моё о таком освобождении, из-за которого разверзнутся небесные врата, и озарят светом темницу, и возликуют ангелы, и возрадуются очи пророков и посланников! – тур.) – он повысил голос, и комната стала тем голосом полна. – Аллаху теала инананлары дженнет бахчеси иле мюкафатландурур, дженнети ким истемез, кафирлер дахи, чюнки дженнет ебеди саадет юрдудур. Сен де саид олмак ве Аллахıн сени эсиргемесини истеме мисин? (Аллах вознаградит праведных райскими садами, ведь рай желанен всякому, даже неверному, ведь рай является обителью радостных! Хочешь ли ты радости себе, да смилостивится над тобой Аллах? – тур.)
Степан искал в себе нужные ответные слова.
– Бютюн джанлылар азап дегил саадет истер (Всякий живущий хочет радости, а не горя. – тур.), – сказал глухо.
– Сенин мюршидин оладжак ве сени хем ерде хем дахи гёкте куртараджак тарике гётюреджегим (Я буду твоим мюршидом, я наставлю тебя в твоей вере, которая спасёт тебя на земле и на небе. – тур.), – пообещал его собеседник, всё так же не меняя выражения бесстрастного лица.
Голос его словно бы опеленал Степана.
– Зиндандан чыкаджак ве гидеджексин. Герчек бир мюслюман оларак намазын кыладжаксын, Аллаха якараджаксын, ниче япылыр, сана ёгретеджегим. Рамазаны шерифте оруч тутаджаксын. Фырсат булдукча садака дагытаджаксын, бу саеде сана лазым геленден даха чогуна сахип оладжаксын. Сана хедие эдилен, башыны сокажагун о эвин бюнядына гайрет гетиребилюрсин… (Ты оставишь темницу и выйдешь прочь. Дабы оставаться истинным мусульманином, ты будешь выполнять намазы: молиться Аллаху, и я научу тебя, как. Ты будешь поститься в священный месяц Рамадан. Ты будешь при всякой возможности подавать милостыню, оттого, что будешь иметь куда больше, чем нужно тебе одному. Ты сможешь посвятить себя созиданию того дома, что приютил тебя и одарил тебя… – тур.) – мюршид снова вылепил руками призрачный, из удивительного стекла, шар, и держал его на кончиках пальцев. – …Веяхут кёле калырсын. Кёлелиги ми сечерсин? (…Либо ты можешь остаться рабом. Ты выбираешь рабство? – тур.)
Пальцы его были готовы отпустить тот шар, чтобы он разбился.
– Нет, – ответил Степан, выдохнув.
Мюршид сомкнул руки и переплёл пальцы, которые продолжали даже в переплетённом состоянии, шевелясь, струиться.
– Бен дахи сени дуйдум, сенин адина севиндим (Я тоже слышу тебя и радуюсь о тебе. – тур.), – сказал он, не выказывая голосом никакой радости. – Незжат тарикине гирмек ичюн ялнызча саг элини калдырып, нейсе ки прангасыз, дедюгими текрар етмен етер: «Ашхаду алля иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадаррасулюллах». (Чтобы начать спасительный путь, ты всего лишь должен поднять правую руку, милостиво не стеснённую кандалами, и произнести: «Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его». – тур., араб.)
Мюршид бесстрастно и устало смотрел в глаза Степана.
– Я не могу поднять руки мои. Они переломаны воинами Аллаха, – был ответ.