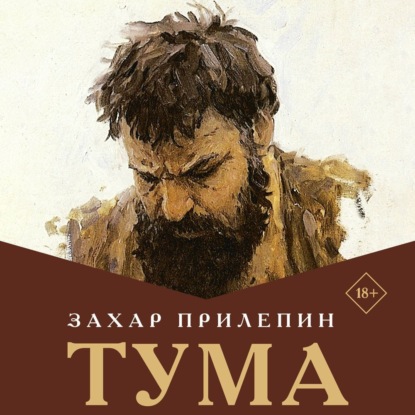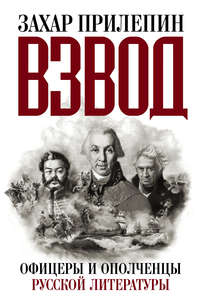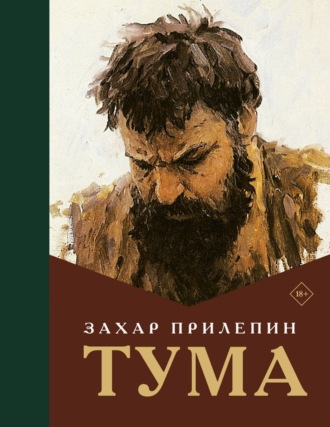
Полная версия
Тума
– Ведаю, батюшка, – выдохнул служка, часто моргая и глядя затравленно.
– Иди, Петро, – велел Минька, и, едва тот пропал за войлочным пологом, закончил: – Послушаешь моего хозяина – будет тебе жёнка здесь. Такие жёнки водятся тут – со всей Московии повымели! Я б каждый месяц на новой женился, когда б своей так не дорожил… И служку дадим тебе, вот мальца Петра и возьми, – и тут же, хитро скосившись, негромко добавил: – А то попортят агаряне. Им тут иной раз – всё едино: что девка, что малец, что овца.
Взгляд Миньки при том был весел и поган.
IIIВзятых в полон языков пытали по весне на кругу.
Весна всегда была крикливой.
Грохотала вода; свиристели, щебетали, клоцали, каркали, перекрикивая друг друга, птицы; ржали кони, перелаивались собаки; бякаили овцы; ревела рогатая скотина.
«Целый адат!» – говорили про такое.
Гудели, двигая сизыми кадыками, собравшиеся в круг заспанные, осунувшиеся за зиму казаки, споря, как идти за добычей: конными на ногаев, или морем Сурожским по брегам Тавриды, а то и дальше, в Туретчину; или вверх по Дону, а потом вниз по Волге – на Хвалынь; и кому доверить атаманскую власть в походе.
В то время жгли огонь прямо здесь же; дым срывался в сторону, закручивался волчком, вдруг успокаивался и стелился в ноги.
Приходило время расспроса и человеческой муки.
Те, кому выпало попасться казакам, надрывались на своём языке, вспоминая то слово, которое избавило бы их от творимого над ними.
Привлечённые суетой, прибредали куры; собаки, напротив, держались поодаль, но чтоб не потерять запах; козы отбегали и блеяли так, будто дразнили пытаемого.
Палачей казаки не имели, но всегда находились умельцы работать с щипцами, с длинным, трёхжильным кнутом, а то и просто с топором, которым бережно кромсали человека, не давая ему омертветь раньше срока.
Иногда мучимый захлёбывался воплем и сознание оставляло его. Тогда пленника отливали из стоявшей здесь же кадки, или ж тёрли щёки и уши ещё лежавшим кое-где снегом. В том виделась своя забота и почти ласка.
Звали из забытья, как дитя, – и радовались, когда пленник открывал глаза.
Возвратив к жизни, продолжали искать в человеке правды, пробуя то здесь, то там. Правда могла таиться в перстах, в ухе, в глазном яблоке. Она почти всегда раскрывалась и выпархивала.
Казаки не услаждались обыденным для них зрелищем пытки, а то и не глядели на неё вовсе, – и лишь внимательно вслушивались в ответы, нетерпеливо перетаптываясь. Никто не скалил зубы и не смеялся.
Атаман выспрашивал, что затевается в городе Азове, или Аздаке; что у ногайских мурз на уме; каким шляхом пойдут ногаи и крымские татаровя на украйны руськие и посполитные литовские; собираются ли иные поганые приступать на казачьи городки.
Выведав всё, человека забывали в грязи.
Добро, если он к тому времени уже захлебнулся собственной мукой – тогда дух его нёсся прочь, стремительный, как ласточка.
Но иной раз калека ещё дышал. Казачьи рабы, ногайцы и татаровя, кидали калечного в повозку и везли к Дону, где, засунув в мешок с камнями, протыкали пикою и, под присмотром младых казачков, топили.
К месту пытки сбегались собаки и казачата. Собаки нюхали и лизали. Казацкие подростки копошились, взвешивая в ладонях отяжелевший кровью песок.
…в тот раз казаки затоптали в грязь железный штырь – и Степан нашёл его первым.
На штырь, ещё тёплый в руке, была намотана латка человеческой кожи и клок чёрных, с кудринкой, волос.
Пленник поведал: османский султан собирает воинство неслыханное – возвращать под руку свою уворованный казаками Азов-город.
…в ночи трепетали огромные зарницы.
Выхватывали непомерные пространства – в такую вышину, до какой ни один пожар не достиг бы. Будто кто-то над всей землёю вздымал багровые паруса.
Расползался по всей ночной степи величайший скрип. Словно саму землю, загрузив, тянули прочь с её места в преисподние котлы, а впряжена была саранча, скрипевшая острыми, несмазанными коленями.
Черкасские люди стояли на валах, глядели в бурлящую, как в казане, ночь.
Никто никогда на Дону подобного не видал, не слыхивал.
Птицы летели над городком в московскую сторону, оставляя свои гнездовья.
Поп Куприян, проходя по валам и кропя стены, молил Господа о спасении. Голос его то затихал, то вновь обретал силу.
В редких факельных огнях сам Черкасский городок лежал, как слабый морок.
Пламя выхватывало то конский круп, то крышу куреня, то слабый мосток и червчатую воду под ним, то одинокую казачку, ставшую посреди дороги, как врытая.
…на са́мом рассвете, когда показались застывшие по колено в дымке редкие ивы и вербы, и откатилась вдаль степь, – выехали из тумана дозорные черкасские казаки. Одежды их были волглыми от росы.
– Тьма их, браты-казаки! – кричал, надрываясь, дозорный; глаза его до сих пор хранили отсвет ужасных людских множеств. – Вода поднялась в Дону от кораблей их, от галер их и бус, и лодок, и ладей! Сколько трав в лугу – столько парусов под Азовом возможно узреть! А людишек их – со сто тысяч! Со всего свету, должно, свёз султан османский поганых!..
Матрёну качнуло, как в обмороке.
На всю жизнь казацкую обвалилась неприподъёмная тень.
…с того дня Матрёна постилась не только в среду и пятницу, но и в иноческий постный день – понедельник.
В последнюю седмицу июня принесли весть: поползли чалматые на стены, началась лютая брань.
– Тысячи труб воют, тысячи барабанов стучат! От грохота того рыба всплывает кверху брюхами! Птица гибнет посреди неба! – кричал вестовой, проносясь по городку. – Помилуй нас, Богородица!
Матрёна упала к иконам, загнав губы в рот, чтоб не завыть. Перетерпев крик, начала молиться. И Степан, и Якушка, и даже Иван стали в рядок, целой грядкой. Голоса их совпадали в каждом слове, как сшитые.
…на день другой казачья разведка приспела с радостью.
Первый приступ отбит: выстояли казаки.
Рабы турские, средь которых великое число отуреченных христьян словенских языков, роют огромный, в полёт стрелы длиной ров.
И ров тот наполняют нагими своими мертвяками, как рыбой.
…и потянулась тетива ожиданья на многие дни.
Ночами выли собаки, чуявшие недоступное человекам.
Матрёна исхудала.
Малолетки не уходили с валов. Чалматые могли заявиться и сюда – и тогда идти на рать и старикам, и бабам.
Дожидались в ночи, чтоб вышло к берегу мёртвое казачье воинство, и стало бы, сияя пустыми лицами, на страх поганым. Да, видно, огромные зарницы и дальний рёв труб даже призраков распугали.
К началу Успенского поста турки насы́пали у крепостных азовских стен огромные земляные горы. Затащили на горы те множество пушек. Начали оттуда непрестанный обстрел.
…в один день принесли весть о том, что на одной азовской башне стоит уже поганое знамя магометянское.
…в другой же день весть, что казаки ту тряпку сорвали и пожгли.
…в третий Черкасск ликовал: к сидящим в осаде пробилась в ломовой рати ещё в тысячу числом подмога – явившиеся со своих Запорогов хохлачи да казаки донских верховых городков.
Степан всё пытался размыслить: где там отец, как он там, на азовской скворчащей сковороде, за дымящимися стенами, куда летят, и летят, и летят, чевыкая о камни, мушиные тьмы пуль? Возможно ли уберечься и не сгибнуть, обретаясь средь ядер, как среди обвального града? Спят ли, смеются ли, плачут ли там? Какие святые раскрыли оберегающие длани над ними?..
Казак, бывший на пяти поисках и в пяти осадах, считался навек везучим; у деда Лариона тех осад, поисков и браней – было что зубов у собаки.
В те недели дед Ларион стал не по годам прыток: завидев на дороге следы его посоха, Степан непременно деда отыскивал.
Завидев Лариона, как воробьи слетались казачьи чада; он говорил.
– …как, ребятушки, наши казаки пережидают обстрел с земляных валов. Нарыли в земле земляных изб, покрыли их брёвнами – и там сидят, пьют-едят. А едва турки соберутся итти на стены – казаки наши из-под земли лезут непобитые, – дед Черноярец смеялся.
Он сидел в пустой базарной лавке – все купцы давно поразбежались. Вокруг ещё тлели запахи масел и сладостей. Малолетки в длинном свете заходящего солнца, повернувшись, как цветы, в одну сторону, внимали деду.
– …поганые же – рыли подкопы к Азову-городу. На стены дабы не лезть им, а объявиться посередь города, – продолжал дед, вдруг обрывая и сглатывая смех. – Наши ж казаки-атаманы, про то прознав, разгадали загадку поганых! И запустили в подкоп, поганым навстречу, воду. И смыло у поганых чрез то дело – половину табора их! И утёк табор с добром в реку. И горы, ими насыпанные, той водой подмыло. И с гор тех покатились вниз пушки басурманские, и подавили магометян – как медведь малины! А те ж горы, что устояли, казаки подорвали, – и дед снова беззвучно смеялся; стариковская голова подпрыгивала на мусклятой, но жилистой шее. – А утрось на семнадцатый уже подкоп с турской стороны казаки-атаманы задумали иной ответ. До самого нонешнего дня не открывались они, что ведают о подкопе. А сами же встречь подкопу заложили превеликий заряд пороховой. И едва поганые, собрав людишек многих, пошли тем подкопом имать азовский город, казаки и подорвали заряд! И разлетелись чалмы на три версты вокруг!
Чада казачьи, раскрыв щербатые рты, онемели.
– А вы молитеся, – заключал дед Ларион, зло втыкая посох в землю и с кряком вставая. – Выпадет – и помрём, и стар, и млад, за святыя Божией церкви, и за истинную нашу православную христианскую веру. А коли Бог даст и Пречистая Матерь пособит, так и устоим от нехристей, – дед осенял себя крестом, кланяясь на раскалённый закат. – …казакам холодов дождаться б. Подойдут снеги – басурманы сами в турску землю поспешат…
Матрёна пуще прежнего стала ласковей к Тимофеевым сыновьям, но даже Иван с происходящим мирился, оттого, что догадался: то не им, а отцу.
Яков же для Матрёны будто и вовсе начал расти в обратную сторону: он едва выпутывался из материнских рук.
Матрёна теперь мало смотрела за своими цветами, наскоро прибиралась в курене, ругалась на скотину, зато по семь раз за день бегала к войсковой избе.
То здесь, то там упорно прорастали слухи о великом московском воинстве, идущем по Дону. Де, видели уж дозорные государевы лодки у верховых городков, а за ними такой караван следует, что волна на три версты впереди бежит… И волной той выкатит в море всех магометян с-под Азова.
Каждого дошедшего до Черкасска гулящего человека с руських украин выспрашивали про московское войско. А когда те разводили руками и признавались, что по пути никого не видали, на них серчали так, что едва не колотили.
– Вертайся обратно – и погляди, – кричала Матрёна. – Разглядишь, так приходи! Глазами обнищал!
…казачке Ельчаниновой долетела весточка, что казак её, ходивший в есаулах, раненым полонён, ослеплён, посажен на кол – так, чтоб виднелась его мука с азовских стен.
Дошёл он слишком скоро: отдал Богу душу. От обиды, что помучиться казаку не пришлось, ему, так и сидевшему на колу, срубили голову.
…торчал на колу безголовым, пока остриё не выползло из шеи.
Никому не сказавшись, спустя девять дён вдова, должно, второпях, ушла в Русь, в стружке у залётного купчишки.
Соседи догадались про всё, как расслышали гомон запертой птицы с ельчанинова база. Птицу разобрали по соседям, Степан тех кур ловил тоже.
Кочет так и не дался: метался с тына на тын, в конце концов взлетел на грушу у самого Дона и затих там на ветке, как нечистый.
Крестясь, соседи разошлись.
Под вечер ноги сами привели Степана к опустевшему куреню Ельчаниновых.
Встал у оконца и долго вглядывался сквозь лопнувший рыбий пузырь. Понемногу различил покрывало на лавке, деревянные плошки, кочергу возле печки. Слабо трепетал дух покинутого жилья.
…и вдруг ощутил: там, незримый, стоит посреди куреня бывший жилец.
Смахнёт пыль со стола – и снова стоит недвижимо.
Засосало под сердцем, но не испугало всё равно: в жильце том не было больше ни крови, ни сил, и сквозняки играли сквозь него.
Открыв дверь, Степан, нарочито шумно ступая, прошёл в горницу. Перекрестился на божницу.
Никто не оттолкнул, не тронул.
У двери валялись старые валенки в дырьях. На крючке висел старый кафтан убиенного казака. Посреди стола лежала доска для резки. От доски пахло вяленой рыбой.
На подоконнике приметил деревянную чашу и через всю горницу направился к ней. Ждал, что вот-вот обхватят его мягкие руки жильца, но нет – прошёл сквозь него, как сквозь оконную занавесь: едва ощутив лицом касанье.
Взял чашу; мягко звякнула по дну цепочка с медным крестиком.
Выложил крестик на стол: вдруг убиенный потерял Христа нательного со скошенной шеи – и пришёл за ним? Но, лишённый головы, не смог отыскать. Оттого и стоял, растерян, посреди куреня.
IVАзовский паша Зульфикар был высок, крепко собран. Брови вразлёт, острый взгляд – всё выдавало волю. Крупный нос и коротко остриженная борода.
Белоснежный тюрбан украшали алмазы.
Одетый в шитый узорами алый халат, перетянутый пурпурным поясом, он сидел возле каменного столика со сладостями и плодами.
Находившиеся здесь же слуги, видя настроение паши, имели на лицах благостное выражение.
Пол был устлан богатым и мягким ковром, в котором ноги утопали по щиколотку. С потолка свисала масляная лампа из венецианского стекла.
В углу располагалась клетка с краснохвостым попугаем. Завидев входящих, тот торопливо перебрался по прутьям в самый ближний угол клетки, мерцая бусинками внимательных глаз.
Вокруг паши были разбросаны бархатные подушки, но он сидел, не опираясь на них.
Подле него лежала плётка, сплетённая из хвостов трёх разномастных лошадей.
Склонившись, Минька ждал у входа. Паша едва моргнул – и он исчез, напоследок подняв полог, чтоб из открытого за спиной паши окна продувал сквозняк.
Степан стоял, опираясь на посох.
– Кафир, бана дедюлер ки, сёйледиклерюми анлармышсын? (Мне сказали, ты поймёшь мою речь, неверный? – тур.) – спросил паша.
Степан склонил голову:
– Элюмден гелени япарым, султанум. (Буду старателен, правитель. – тур.)
Паша оглядывал его, любопытствуя.
– Хала хастамысин, кафир? (Ты всё ещё болен, неверный? – тур.) – спросил он, выбирая длинными красивыми пальцами померанец.
Мерцали прелестные перстни, украшавшие его руки.
– Якында кендюм йюрюрюм, султанум (Скоро я буду ходить сам, правитель. – тур.), – ответил Степан. – Дувардан дувара, йа да белки бираз даха илери. (От стены до стены, или, быть может, чуть дальше. – тур.)
– Мюмкюн (Быть может. – тур.), – сказал паша, медленно стягивая померанцевую шкурку.
Положил в рот дольку померанца и раздавил её языком, никак не выказав, горьковатым или кислым оказался плод.
– Кафир, диндарларун тилини хардан билюсин? Эскиден де эсир ми дюштюн? (Откуда ты знаешь язык правоверных, неверный? Уже был пленён прежде? – тур.)
– Хайыр султанум, анам тюркидже, татарча билир иди. (Нет, правитель. Я рождён матерью, говорившей на языке османов и на языке татар. – тур.)
– Ананун аду не? (Как звали твою мать? – тур.)
Паша неспешно, словно сберегая прозрачные прожилки, крепящие плод, отломил ещё одну дольку.
– Мария.
– Хакики аду не? (Каково истинное её имя? – тур.)
– Михримах, султанум. (Михримах, правитель. – тур.)
– Вафтиз олуп му? (Её крестили? – тур.) – спросил паша, откладывая недоеденный померанец, и продолжая заинтересованно глядеть на Степана миндалевидными глазами.
– Татар мезарлыгда ятар, султанум. (Она похоронена на татарском кладбище, правитель. – тур.)
– Сени бюйюттюгюнде тилини унутмады? (Она не забыла свой язык, пока растила тебя? – тур.)
– Не тилини унутты, не тюркилерини, не масаллары не дахи аилесинюн адларыны, султанум. (Она не забыла ни языка, ни песен, ни сказок, ни имён родителей, правитель. – тур.)
Паша с видимым удовольствием сцепил руки.
– Кафирюн хардан качырп анану? (Где украли её неверные? – тур.)
– Азов шехрю карибинде, тюрк гемюсинден. (Её забрали в море близ Азова-города с турского корабля. – тур.)
– Качрылдыгы кюню билирмисин? (Известен ли тебе день похищения? – тур.)
– Бендениз догмадан ики ил еввел. (То было за два года до моего рождения. – тур.)
– Кафир, сен ханги яштасун? (Сколько лет тебе, неверный? – тур.)
– Догма игирми еди, султанум. (Двадцать семь от роду, правитель. – тур.)
– Ниче кимеснейди? (Какого рода она была? – тур.)
– Тербиесине кёре заннымджа асилдюр. (Мыслю, что прежде полона она обучалась женскому вежеству, и род её был знатен. – тур.)
– Ханги сюляледен олдугуны билийорсун? (Ты знаешь имя её рода? – тур.)
– Хайир, пошам. Чоджуклукта бу ад бана анламсыз эди. (Нет, правитель. В моём детстве оно не сказало бы мне ни о чём. – тур.)
Паша взялся пальцами левой руки за самый крупный перстень на правой и повернул камень вниз.
– Кафир, сен ордунун тылмачымысын? (Ты был толмачом своего войска, неверный? – тур.)
– Комушуларла конушмак ичун казаклара тылмач герекмез. Онларла хейэтле гиттим. (Казакам не нужны толмачи, чтобы говорить со своими соседями. Я ходил к ним среди послов. – тур.)
– Савашчы дахи гиттим (И ходил к ним среди воинов. – тур.), – закончил он за Степана. – Башка хара гиттин? (Куда ещё ты ходил с посольствами? – тур.)
– Нидже урус шехрине, астрахан татарына, черкезе, калмук мирзаларына, литваня украйнасына. (Во многие русские города, и к астраханским татарам, и в черкесы, и к мурзам калмыцким, и в украины литовские. – тур.)
– Тевеллюдюн хара? (Как именуется городок, откуда ты родом? – тур.)
– Черкаск шехрю, султанум. (Черкасский городок, правитель. – тур.)
– Черкаск казаклары, азов зехрю, ногай улусы, Кырым хану – селлемаллаху – ве тебаасы хаккында не дирлер? (Что замышляют черкасские казаки против Азова-города, против ногайских улусов, против крымского хана и его подданных, да хранит его Аллах? – тур.)
– Мен эсир икен азовлу ве дахи ногайлуыла барышык идюк. (Когда я был полонён, у нас был мир с азовскими людьми и с ногайскими улусами. – тур.)
– Кафир, сана, сулх вармы тимедим (Я не спросил, был ли мир, неверный. – тур.), – чуть повысил голос паша. – Салдурма дюшюнюрлерми тидим? (Замышлялись ли набеги, спросил я тебя? – тур.)
– Казакларта ахди бозма касты дуймадым, султанум. (О злонамереньях нарушить договор промеж казаков не слышал, правитель. – тур.)
– Бу айба дюшмеден унванын не идю? (Войсковой чин твой, что был до позора? – тур.)
– Юзбашы. (Сотник. – тур.)
– Педерюн кимдир? (Кто отец твой? – тур.)
– Казак.
– Догма казак? Ёхуса гайры диярдан качуп гелен ми? (Родом казак? Или беглый холоп с иных земель? – тур.)
– Кенди ирадуна кёре казак. (Казак по воле своей. – тур.)
– Урус ханына ёгуса лехистан кыралына баглуйыду? (Московского царя подданный был он или короля посполитного? – тур.)
– Урус хюкюмдарына. (Государя московского. – тур.)
– Сен кендюн харадансун? (Каких земель беглый? – тур.)
– Воронежских.
– Джеддин де оралыдыр? (Дед твой был тех же земель? – тур.)
– Бели, султанум. (Тех же, правитель. – тур.)
– Джеддин ханхи миллеттен, тюрк митир? (Происхождения какого дед был твой? – тур.)
…под стоящим на краю Дикого поля городком Воронежем имелось селение Усмань Собакина. Там жили: посадский человек Исай, молодая жена его Анюта, сын их Тимофейка.
Исай водил крепкие приятельства и в Стрелецкой слободе, и в Пушкарской, и в Казачьей – с городскими служилыми по прибору казаками.
Знал казаков низовых, земли не пахавших, живших одной разбойной службой. Привечал их у себя, заслушиваясь старинами про морские поиски.
Раз пристал к стрелецкому отряду, шедшему вдогон за ногаями.
Нагнали – дрались кроваво, было жутко, крикливо, дорубил саблею не им пораненного ногая, и, глядя в ощеренный, полный кровью, с потерявшимися в той крови зубами рот, – испытал вещий озноб.
С той брани достались ему саадак и два ножа в ножнах.
Сходил по случаю до низовых городков. Свёз на торг ржаной муки и сухарей, купил двух ногайских лошадей.
Возвратившись, перепродал с выгодой.
Влекло иное.
Не от докуки жизни, а по лихому беспокойству натуры, с ведома воронежского воеводы, Исай ушёл на Дон – казаковать.
Обитался сначала на Верхнем Дону, в станице Голубой. Затем съехал на Нижний Дон и вырыл землянку в малом городке прозваньем Дурной.
Анюте пообещал возвращаться с дарами – и не солгал.
Трижды Исайка Разя являлся в Усмань Собакину с зипунами: золотишко, шелка, мониста, перстеньки. Делился с воеводой, баловал жену, остальное без жалости прогуливал.
Трижды возвращался в казачество.
На третий раз в Дурном зажился и не возвращался год.
Прозванье средь казаков имел гордое: Разин.
Весной к нему явилась жена. Одарил её серьгами – в них камни с голубиное яйцо, спровадил.
В очередном поиске Исай Разин запропал где-то у Кафы-города, обратившись в соль и песок.
Вдова его Анюта, в остатный раз съездив на Дон с воронежским купцом, забрала рухлядь Исайки: посуду, сукна, кафтаны, сапоги, конскую упряжь, медный чан, три ожерелья, лежавшие в кисете за божницей, – добро то никто не тронул.
Оставшиеся Исайкины пистоли, сабли и ножи были изукрашены столь богато, что Анюта, продав их здесь же, не только осталась в прибыли, но и закупила в обратный путь нужного ей товара – бобровых и лисьих мехов и ломаного серебра.
Вернувшись в Собакину Усмань, Анюта спустя год нашла себе в мужья другого посадского. Родила от него второго сына – Никифора.
Отрок Тимофей с отчимом не ладил. На пятнадцатом году ушёл с гулёбщиками в промысловый городок – бил с ними всё лето зверя и птицу. Продав добытое, в осень ушёл на Дон, в низовую станицу, где имелись воронежские знакомцы, помнившие Исайку Разина.
С тех пор Тимофей, сын Исая Разина, от семьи отстал.
…паша, ничего не говоря, чуть поднял правую руку, пошевелив указательным и средним пальцем, – тут же в коридоре зашумели одежды, и вскоре, кланяясь, вошёл безбородый смуглый человек в татарском халате, но не татарин обличьем: должно, грек.
Тонкий нос его имел горбинку, а бесстрастные глаза были расположены глубоко под надбровьями.
Паша качнул головой, и грек уселся неподалёку от него.
Говоривший со Степаном был советником – толмач не посмел бы сесть.
Мягко махнув ладонью, как бы сгоняя мошку, паша разрешил вошедшему говорить.
– Емек истерсин, казак? (Ты хочешь есть, казак? – тат.) – спросил тот сухо.
– Мени тояна хадар ашаттылар, эфенди (Меня сытно накормили, эфенди. – тат.), – ответил Степан.
– Эсирликке тюшкенде янында сеннен берабер не хадар аскер вар эди? (Сколько воинов было с тобой, когда тебя полонили? – тат.)
– Эки. Амма бириси хаин олып чыхты. Ёлумуз саваш дегиль эдик. (Двое, но один из них обратился в Иуду. Мы не шли на рать. – тат.)
– Сиз харадан я да озенден кете эдиниз? (Посуху или речным путём шли вы? – тат.)
– Харадан, атланып. (Посуху, конными. – тат.)
Говоривший со Степаном, посмотрев на пашу, одобрительно кивнул.
Паша – рука на столе, – не поднимая ладони, поднял вверх указательный перст: продолжай.
– Сен бутасын? (Ты бута? – тат.) – спросил грек, глядя Степану в грудь, а не в лицо, будто сам он только мешал ему слушать ответы.
– Бута тек татар ве тюрк тилини билир. (Бута знает только татарский и турецкий языки. – тат.)
Советник раздумчиво покачал головой и спросил:
– Ти хрома эхи и таласса, Козаке? (Какого цвета море, казак? – греч.)
Степан молчал.
Советник взглянул на пашу, опечаленно поджав губы.
Паша ещё ждал ответа.
– И таласса бори на инэ галазия, на инэ маври, на инэ алики, на инэ гриза (Море бывает сине, бывает черно, бывает розово, бывает серо. – греч.), – сказал Степан безо всякого чувства.
– Имаш ли ти Гркине или Српкине милоснице или робине? (У тебя есть греческие или сербские наложницы или рабы? – срб.)
– Имао сам Србе и Грке приятелье. (У меня были сербские и греческие товарищи. – срб.)
– Маза тараа? (Что ты видишь? – арабский.) – грек поднял свою руку.
Степан снова замолчал, раздумывая.
Советник скосился на пашу.
Паша не сводил глаз со Степана.