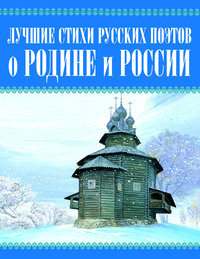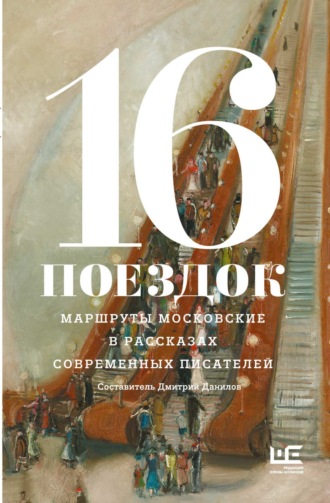
Полная версия
16 поездок. Маршруты московские в рассказах современных писателей
Когда я разговариваю с друзьями и знакомыми и речь заходит о терактах в Москве, то оказывается, что все москвичи их помнят, но каждый какой-то отдельный помнит лучше. “Помнишь взрыв в поезде между «Павелецкой» и «Автозаводской»?”, “да, если бы террорист не ошибся, то Москва-река хлынула бы в тоннель и всё метро бы затопило”, “в час пик, в восемь утра”, “жесть, фильм-катастрофа”. Кто-то помнит теракт в аэропорту Домодедово, после чего там установили рамки на входе. С тех пор я обращаю внимание на все оставленные вещи, на все чёрные неприметные сумки, пакеты и тележки, рядом с которыми никого нет. Я спускаюсь в метро – мой рюкзак просвечивают, прохожу мимо мраморной мемориальной таблички с фамилиями погибших на “Автозаводской” – под ней свежие цветы. Почему-то это всегда гвоздики – я включаю вайфай и читаю: в Древней Греции они считались оберегом, в Риме гвоздики вручались победителям, в христианстве – символ скорби, во времена Наполеона жёны французских солдат вручали им цветы, когда те отправлялись на войну. Бомба весила почти двадцать килограмм, террорист-смертник пронёс её в рюкзаке, поражающими элементами были болты и гайки. После взрыва машинист остановил поезд, открыл двери, и тысяча людей вернулись обратно к “Автозаводской”, а около полусотни человек пошли к “Павелецкой”, несколько километров по тоннелю. Когда поезд останавливается в тоннеле, с тех пор я представляю, что нужно будет идти по рельсам – проверяю процент заряда в телефоне, думаю, на сколько хватит фонарика. “Абонент не отвечает или временно недоступен”.
На следующий день после теракта на “Лубянке” и “Парке культуры” я ехала в метро на работу к “Китай-городу”: в полупустых поездах были одни мужчины и ни одного мигранта. Кадры с камер наблюдения, списки погибших, ежечасные новости, подогревающие тревогу, – конечно, было не по себе. Но прошло несколько дней, и метро снова стало многолюдным, поезд уже не проезжал Лубянку, и никто в испуге не разглядывал станцию через окно. Москва перемолола всех – погибших, пострадавших, террористов. На “Китай-городе”, хоть я работала там несколько лет, я до сих пор теряюсь – упорно перехожу не туда, уезжаю не в том направлении. Путаю следы, петляю, как животное, которое уходит от хищника, возвращаюсь назад.
С каждым годом в метро становилось всё больше людей – на своей станции я пропускала несколько поездов, прежде чем протиснуться в закрывающиеся двери. Юго-восток, фиолетовая ветка, из Выхина вагоны битком, изредка попадается полупустой поезд, который остановился только в Кузьминках. В утреннем поезде все места – спальные, как шутил мой коллега. Я научилась спать стоя, как лошадь, привалившись к кому-то, или, если повезёт, встав около дверей – можно упереться головой в стекло рядом с надписью “Не прислоняться”, а если освободится место, то сесть, тут же заснуть и поднимать подбородок и приоткрывать глаза, только когда поезд тормозит перед очередной станцией. Можно читать, стоя на одной ноге и держась за поручень одной рукой, а пальцем другой руки перелистывать страницу, помогая себе носом.
В почте письмо от модного медиа: предлагают написать эссе о времени. “Осторожно, двери закрываются”. Сколько дней я провела в метро, сколько месяцев, а может, лет? Если ездить два часа в день, пять дней в неделю, двадцать дней в месяц, не считая выходных и отпусков, двенадцать месяцев, то это двадцать дней в год. Я работаю с восемнадцати, а значит, постоянно езжу в метро уже семнадцать лет. Триста сорок дней. Что я делала в этот без малого год?
Три месяца я проспала. Когда я одновременно работала и училась – вставала в семь утра, к девяти приезжала в офис, в шесть заканчивала и к семи ехала на пары. До девяти – до десяти мы занимались, смотрели и обсуждали кино, и домой я возвращалась к одиннадцати, иногда к полуночи. В те годы в метро я спала и иногда читала – учебники по режиссуре и истории кино к зачётам и экзаменам, сценарии и пьесы, перечитывала классику, по которой нужно было ставить этюды.
Собственно, три месяца я читала. С детства не представляла поездки в метро без книжки – если забывала взять одну, хватала другую с полки в последний момент, уже обувшись, и выходила из дома. Люблю читать на эскалаторах – особенно длинных, гулких: едешь в трубе, не нужно думать о том, скоро ли подъём или спуск закончится, можно полностью сосредоточиться на тексте. В час пик удобно читать с телефона – если тебе нужно занимать поменьше места, хотя у бумажных книг есть преимущество – они создают такую необходимую дистанцию с другими людьми. В вагоне чтение коллективное – если садишься с открытой книгой, в неё обязательно заглядывают, поэтому лучшее место – сбоку у дверей, как плацкартная боковушка: соседей нет, но мимо тебя все ходят, так что бумажную книгу могут и снести, нужно держать её крепче. Больше всего я запомнила “Под парусом в одиночку вокруг света”, книгу английского яхтсмена Робина Нокса-Джонстона, в 1967 году впервые совершившего кругосветное путешествие, как это понятно из названия, без чьей-либо помощи и без остановок: ни GPS, ни актуальных прогнозов погоды, ни автопилота. Читать о том, как Робин борется с поломками, со стихией, как ловит радио и слушает, кто лидирует в гонке (участник из Франции неожиданно решил не возвращаться, а пойти на второй круг, и жена передавала ему по всем каналам: “Франсуа, возвращайся, тебя ждёт вся Франция!”), а кто выходит из неё (в итоге 8 из 9 человек снялись), как у него заканчивается еда и как он проклинает всё, говоря, что яхтинг – это каторга 24/7, а самой ехать в тёплом вагоне – интересный контраст.
Месяц я наблюдала за людьми. На первом курсе ВГИКа мастер сказал нам, будущим режиссёрам: “Я знаю, что вы все интроверты, знаю, что вы ездите в метро в наушниках и (тогда ещё) с книжками. Снимайте наушники, убирайте книги, смотрите на людей, слушайте, запоминайте, учитесь у реальности”. В дальнейшем этот совет мне много раз помогал. В детстве мне говорили, что долго рассматривать других людей невежливо, и я научилась делать это незаметно. Всё просмотренное кино, все прочитанные книги ничего не дают без наблюдения вживую.
В 2020 году советы, как не заболеть Covid-19, были похожи на советы десятилетней давности после терактов: не посещать места скопления людей, не ездить на общественном транспорте, стараться не выходить из дома без необходимости. Я ездила на съёмки, по делам, привозила маме продукты и лекарства, носила и перчатки, и маску, не носила перчатки, носила только маску. Научилась разговаривать с людьми одними глазами. Вы выходите? Садитесь, пожалуйста. Ничего, я постою, мне на следующей. Это какая станция?
Месяц писала. У меня в телефоне – четыре тысячи заметок. Писать я начала в детстве. Сейчас стыдно вспоминать всё, что я писала лет до двадцати восьми, но тогда я считала, что пишу прекрасно. Я выросла в доме, полном книг, и больше всего любила читать о приключениях и путешествиях. Первые тексты я писала, подражая им, – до двадцати лет не выезжала из России и представляла себе другие страны только по книгам. Про какие-то потерянные сокровища на дне океана, дуэли на шпагах и саблях, про корриду и затерянные в пустыне немецкие подлодки, истории про рок-музыкантов, наркоманов и автостопщиков, истории о цыганах, танцовщицах, бунтарях и преступниках. А потом поняла, что писать нужно о тех, с кем я выросла, о том месте, в котором прожила большую часть жизни, о той жизни, которую я знаю, – жизни на окраине Москвы.
Месяц ехала по эскалатору. Когда я спускалась в метро в феврале и марте 2022 года, то постоянно чувствовала запах перегара – как в праздники, только никто не радовался, было больше похоже на поминки. Люди не смотрели друг на друга, прятались и прятали экраны телефонов. В сентябре 2022 года в поездах я видела много рыдающих или заплаканных женщин, бледных и потерянных мужчин.
Месяц переписывалась и листала социальные сети. Раньше метро было уважительной причиной – нет сигнала, перезвоню. С годами личное пространство сократилось до минимума: можешь не принимать звонок, не перезванивать, но нельзя не отвечать на сообщения – тебя ждут, тебя требуют, от тебя что-то постоянно кому-нибудь нужно. “Ответь мне в тг, я тебе написала полчаса назад”, – пишет коллега в вотсап. Ответь мне, ответь. Отвечать на вопросы – моя работа.
Неожиданная остановка в тоннеле. Уважаемые пассажиры, сохраняйте спокойствие, поезд скоро отправится. По техническим причинам время стоянки составит пять минут. Пять, четыре, три, две… Сохраняйте спокойствие.
Три недели кого-то ждала. Когда ты ждёшь кого-то, ты как будто находишься в лиминальном пространстве. Ты ещё не достигла пункта Б, стоишь посередине дороги. В этом состоянии путника, на вынужденной остановке, к тебе подходят люди – кто-то спрашивает дорогу, кто-то пытается знакомиться, кто-то просит деньги. Я с трудом представляю себе, что может подумать человек, впервые попавший в московское метро: толпы вечно спешащих людей, огромная карта, совершенно непонятная и неудачная навигация, в которой могут запутаться даже москвичи. На станции “Павелецкая” ко мне в течение десяти-пятнадцати минут могут два-три раза подойти люди с чемоданами и спросить, как попасть на Ленинградский или Казанский вокзал. Когда отвечаешь, что нужно доехать до “Комсомольской”, смотрят с недоверием. Да-да, вам по кольцу.
Две недели ждала поезда. Иногда, особенно ночью, перед закрытием, стоишь на старой станции – сталинский ампир, пустой дворец, простирающийся куда-то ввысь и вширь, гулкий, с лепниной, мрамором и позолотой, – и, когда поезда нет три, пять, семь минут, прикидываешь, что делать, если он не придёт вообще, а потом перестаёшь проверять часы и представлять, слыша далёкий гул, что сейчас вкатится, дребезжа и ослепляя фонарями, паровоз, остановится с железным скрежетом, проводник спустит раскладную лестницу – чугунную, литую, – и ты поднимешься, принимая его руку, пройдёшь по полутёмному коридору, освещённому газовыми фонарями, шаги будет гасить толстый ковёр, сверишься с билетом и номером, выгравированным на купе, и сядешь на своё место, задвинув красную бархатную штору.
Неделю целовалась. Удобнее всего целоваться на эскалаторе, как бы это ни было банально, а неудобнее – в вагоне, на прощание. Когда поезд прибывает на его станцию, он выходит, а ты остаёшься. Идеально, когда выходишь первая – тогда последнюю точку в прощании ставишь сама. Целуешь сухо, уже как будто не думая о нём, переключившись на работу, дела, голодную кошку. Ну давай, увидимся. Может быть. Пока. Проходя мимо памятных мест, вспоминаешь, как в таком-то году встретились здесь, а в таком-то – вот здесь. “Давай где обычно”, целовались и шли привычными маршрутами. Здравст- вуйте, Виктор Павлович. Как ваши дела? Только что видела Сергея Мироновича, передаёт вам пламенный революционный привет.
Один день писала этот текст.
Анна Шипилова благодарит редактора Аркадия Тесленко за помощь в работе над текстом.
Алексей Варламов
Попугай на Оке
Это было в тот год, когда я окончил университет и, уйдя из родительского дома, снимал однокомнатную квартиру в Тёплом Стане. Метро туда ещё не провели, и ехать приходилось от “Юго-Западной” или “Беляева” на вечно переполненном 196-м автобусе. Люди съезжались в эти края со всей Москвы в большие магазины “Лейпциг” и “Ядран”, и на линии ходил длинный жёлтый “икарус”, состоявший из двух салонов, в каждом из которых висела металлическая табличка с трудно прочитываемой надписью “Секешфехервар”. Это сочленённое чудо венгерского автопрома прозывалось в народе “гусеницей”, “гармошкой”, “колбасой” или “кишкой”, поручней в нём не хватало, на скорости машину нещадно трясло и раскачивало, заносило на поворотах, летом внутри было невыносимо душно, а зимой стёкла обмерзали на палец, и дыхание сотни бьющихся друг о друга пассажиров не могло обогреть вонявший соляркой и выхлопными газами салон. Но зато в “секешфехервар” всегда можно было влезть и ходил он довольно часто.
Под стать автобусу была и моя квартирка на предпоследнем этаже панельного дома на улице Генерала Тюленева, разве что в отличие от жёлтого “икаруса” очень маленькая. И до и после этого я сменил много разных адресов, но такого скверного жилища у меня не было никогда. Метров в пятнадцать комната с облезлыми обоями болотного цвета, затёртым полом, покрытым обшарпанным грязно-розовым линолеумом, с низкими потрескавшимися потолками и крошечной кухней, она накалялась в жару так, что открытые окна не помогали даже ночью. На кухне не было холодильника и табуреток, зато в изобилии водились тараканы, которых пытались травить прежние квартиросъёмщики, но прусаки выработали иммунитет и не боялись ничего. Что там тараканы – однажды ночью я проснулся от ужасной, точно кто-то зажигал спички между пальцами ног, боли и не понял, что происходит. Я включил свет и увидел маленьких, меньше спичечной головки насекомых, которые ползали по простыне. Никогда раньше я не видел клопов, но сразу догадался, что это они. Всю ночь я бродил по улице и вернулся домой лишь утром, когда солнце залезло в окно, суля ещё один несносный душный день в раскалённой клетке.
Казалось, всё изгоняло меня отсюда и спрашивало: что ты делаешь, безумный, зачем ушёл от добрых своих родителей, для чего покинул кирпичный отчий дом без клопов, с большим, набитым продуктами холодильником и окнами на север в хорошем московском районе возле почтенной станции метро “Парк культуры”? Или плохо тебе жилось с батюшкой и матушкой? Возвращайся, блудный сын, скорей пади к ногам их и проси прощения. Но я стойко держался за свою независимость.
Через неделю мне удалось извести клопов, хотя запах от той дряни, которой я их травил, не выветривался целый месяц. Холодильник мне подарила моя подружка Лена Северинова, перед тем как уйти от меня замуж. Осенним днём мы поехали к ней на дачу под Павловский Посад и протопали пешком четыре километра от станции до дощатого домика на четырёх сотках, но маленький агрегат под названием “Морозко”, в который можно было поставить разве что одну кастрюлю и пакет молока и который вопреки своему названию даже не имел морозилки, в “абалаковском” рюкзаке не поместился. Тогда я привязал ремни от рюкзака к задней стенке холодильника и надел “Морозко” прямо на спину. Ремни были коротковаты, и со стороны я походил на кентавра. Леночка отказалась меня сопровождать, садоводы и огородники смотрели с изумлением, а полная женщина лет пятидесяти с сумкой на колёсиках и букетом гладиолусов поворотилась к мужу и с упрёком сказала:
– Вот видишь, Толик, народ с дач холодильники на себе увозит. А тебе лень транзистор взять.
Однако когда с холодильником за спиной я добрался на “колбасе” до дому и включил “Морозко” в сеть, оказалось, что агрегат не работает. Я сидел на нём и только что не плакал от обиды и отчаяния. Силы мои были на исходе, а родительский дом казался оазисом. Он манил к себе, но я должен был выстоять.
К счастью, вскоре захолодало, измучившая меня жара в квартире сменилась лютой стужей и сквозняками, я вывешивал продукты за окно, а холодильник использовал в качестве табуретки. За это удовольствие я платил семьдесят рублей в месяц маленькому плешивому мужичку неопределённого возраста по имени Гена, который был уверен, что я приехал издалека и деваться мне некуда, а если бы узнал, что его квартиросъёмщик – интеллигентный москвич в третьем поколении – платит за свою свободу и право на одиночество, то принял бы меня за круглого идиота и был бы абсолютно прав. С учётом налога на бездетность на жизнь оставалось около тридцати рублей, из которых шесть я отдавал за единый билет, на остальные питался супом из плавленого сыра, жареной картошкой с майонезом и ливерной колбасой и внушал самому себе, что в этих жертвах есть смысл и когда-нибудь они себя оправдают.
В маленькой квартирке было тоскливо, после работы я бродил по центру, наматывая километры на московских улочках и бульварах, и возвращался домой поздно, когда “кишка” ходила пустая, но её не заменяли другой машиной. Иногда опаздывал на последний автобус и шёл пешком по проспекту Вернадского или по длинной Профсоюзной улице, но, в какой бы час я ни подходил к дому, в нём всегда светилось одно окно. Оно горело прямо над моей квартирой, и я гадал, кто может там жить на последнем этаже. Не то чтоб меня так это мучило или интересовало, но, когда жизнь пуста, какие только глупости не лезут в голову.
Однажды я вернулся с работы и увидел на полу в ванной лужу воды. Поднял голову – с потолка капало. Я подставил таз и пошёл наверх.
Дверь открыла высокая благообразная старуха с неподвижным лицом.
– У вас ничего не течёт?
– У меня ничего не течёт, – ответила старуха с готовностью.
– Откуда ж тогда у меня вода на потолке?
– Не знаю, батюшко, откуда у тебя вода. А ты вот пойди, сам посмотри.
У неё действительно было сухо и чисто. Я даже поразился тому, насколько по-другому может выглядеть точно такая же квартира, как моя. На аккуратной, украшенной полотенцами кухне бросалась в глаза икона с зажжённой лампадкой в углу – но не могла же она светить так ярко, чтобы я перепутал её с электрическим светом? Я хотел спросить старуху, однако не стал – да и какое мне было дело до того, кто залил чужую квартиру?
Но какое-то странное и разочарованное впечатление у меня осталось. До последнего момента это светящееся в ночи окно было тайной, которая мне что-то обещала, и теперь я почувствовал себя обманутым. Я плохо спал в ту ночь, несколько раз вставал курить, садился у окна на холодильник и смотрел на тёмную кольцевую дорогу, по которой днём и ночью ехали машины. Влезать снова в “гусеницу” и тащиться на работу не хотелось. Я вспомнил большую лабораторию, где нужно было заполнять и сверять бесконечные бумаги и радоваться тому, что тебя не посылают на овощную базу. Мысли о том, какого чёрта я пять лет учился в университете, покусывали меня, как клопы. Не то чтобы я был честолюбив и мечтал о карьере или необыкновенной жизни, но, глядя на сорокалетних сумрачных мужиков, которые много лет подряд ходили с девяти до пяти на одну и ту же работу и стреляли друг у друга деньги до зарплаты, я с ужасом спрашивал себя: неужели стану таким же?
Утром меня разбудил телефонный звонок. Звонил однокурсник Вася Норвегов. Он сообщил, что купил бутылку азербайджанского коньяка, и предложил её немедленно выпить. Я обрадовался тому, что нашёлся повод никуда не ходить, и позвал его к себе.
– А что, хорошо у тебя, – сказал Норвегов, оглядываясь. – Совсем другая жизнь.
– Чем другая?
– Женщин можно приводить когда хочешь.
– Ну можно, – сказал я кисло: признаваться в том, что никаких женщин после Лены Севериновой у меня не было, казалось стыдным.
– Сразу видно, ты, брат, в общаге не жил, – сказал Норвегов покровительственно и с чувством превосходства. – Я там чуть импотентом не стал. Только наладишься, как хрясь – в дверь стучат.
Вася приехал из Абакана, фиктивно женился и позвал меня в свидетели. После этого я вынес такое отвращение к загсу и нарядной служащей, глумливо объявившей моего сокурсника мужем, а сорокалетнюю высохшую женщину его женой, какое испытывал лишь в детстве к детскому саду, где меня заставляли есть гречневую кашу с молоком.
Жену свою Норвегов, с тех пор как заплатил ей тысячу рублей, а она его к себе за это прописала, не видел. Союз их строился на взаимном благородстве и честном слове: она обязывалась с ним не разводиться, а он – не претендовать на её жилплощадь. Вася страшными словами крыл москвичей и институт прописки. Я не совсем понимал, почему надо так клясть Москву и одновременно всеми правдами и неправдами в неё стремиться, а он ужасно сердился и кричал в ответ, что я ничего не понимаю, и что на всех москвичах стоит клеймо, и вообще он хочет в Питер.
– Ну так езжай.
– А прописка?!
Работал Норвегов экскурсоводом у трёх вокзалов, ездил по Москве на экскурсионных “икарусах” со случайными группами, состоявшими из ожидающих поездов людей. Поначалу Василий честно пытался заниматься их просвещением, но вскоре убедился, что ничего кроме могилы Высоцкого на Ваганьковском кладбище и Олимпийской деревни приезжих не интересует. Водителей красных “икарусов” – людей, по его мнению, циничных и высокомерных – Норвегов ненавидел так же, как и свою работу, и это нас сильно сближало. Мы оба думали, что всё у нас пока временно, пили коньяк и мечтали о другой жизни. Обитал Васька где-то на съёмной даче на станции «Платформа сто тридцать третий километр», куда он меня несколько раз звал, но я так ни разу туда и не добрался. Иногда мы уезжали с ним в путешествия по окрестным городам – он хорошо разбирался в таких мудрёных вещах, как расписание автобусов и поездов, и с ним я знал, что не пропаду. Но самой больной проблемой в нашей жизни, которую Норвегов умел решать, была добыча выпивки. Километровые очереди за водкой эпохи ранней перестройки сменились талонной системой времени первых съездов народных депутатов. Разделившись, мы гоняли по всей Москве, отоваривая талоны, звонили из автомата моей маме – она сообщала мне, где и в какой очереди стоит Норвегов, а я передавал через неё, где стою я; мама координировала наши передвижения, так что вдруг оказывалось, что надо срочно брать пустую тару и ехать с двумя пересадками с “Автозаводской” на “Фили”. Я нёсся туда сломя голову, очередь уже подходила, меня не хотели пускать, крепкие мордатые алкаши всех распихивали, терпеливо жались интеллигенты, стойко стояли старушки, и среди этого волнующегося человеческого моря возвышался, как памятник без постамента, худенький Вася Норвегов, который уже всех знал и со всеми перезнакомился. Не знаю, какие чувства испытывала диспетчер-мама, когда, счастливые, мы объявляли ей, что нам удалось взять четыре “Кристалла”, две имбирных и три портвейна, но Норвегов ей нравился. К тому же благодаря ему она чаще слышала мой голос.
Мы допили коньяк и поехали в таинственную квартиру на “Варшавской”, где норвеговские знакомые поэты читали стихи. Все они работали, как и мы, чёрт знает кем и где, все были необыкновенно талантливы, умны и уверены в своём блестящем будущем. К часу ночи поэты разошлись, пора было уходить и нам, но Норвегов никуда не торопился. Он сказал, что его электричка ушла, на такси у него денег нет, расположился на диване, пил кислое венгерское вино, ревниво передразнивал поэтов и пытался рассмешить хозяйку, миловидную кареглазую, но слегка заторможенную девицу, которая недавно вышла замуж, однако муж по какой-то причине отсутствовал. Васенька её дружески приобнимал, предлагал выпить на брудершафт, и я несколько изумлённо следил за его ухаживаниями. Институт брака представлялся мне в ту пору священным. Сперва девушка сбрасывала его руку довольно вяло, потом решительнее, но он был настойчив. Странное дело: мне хватило бы десятой доли той пренебрежительности, с какой она отмахивалась от его полупьяных приставаний, а он норовил её подпоить, но вместо этого подпоился сам до состояния невменяемого.
– Слушай, мать, а почему у тебя метро называется “Варшавская”, – с трудом выговорил Норвегов топоним, глотая гласные, как заправский поляк, – хотя Варшава совсем в другой стороне?
– Я почём знаю? – девица пожала плечами и зевнула.
– Нет, ты должна изучить вопрос.
Мне это всё надоело ужасно, и я сказал, что ухожу.
– Уходите оба! – запротестовала хозяйка.
– Ты меня выгоняешь?
– Заберите его, пожалуйста.
– Он не маленький, – буркнул я.
– Подожди меня минутку на улице, я сейчас, – заявил Норвегов и шёпотом добавил: – Иди, иди. С женщинами надо быть не гордым, а упрямым.
Я немножко постоял на улице, покурил, но из дома никто не вышел. Я не завидовал, не ревновал – я был разочарован. Девушка мне и самому понравилась, и то, что она не выгнала Норвегова, меня огорчило. Подошёл похожий на маленького динозавра первый утренний троллейбус, и мне стало так грустно, что, вернувшись домой, я выпил ещё водки и саркастически вспомнил маму, которая переживала из-за того, что я не женат.
Разбудил меня звонок в дверь. Спросонья я почему-то подумал, что это вернулась Лена Северинова, и стал торопливо надевать штаны и рубашку.
На пороге стояла старуха с верхнего этажа. Она смотрела на меня ясными глазами. Но что-то очень странное было в этих застывших глазах.
– Я, батюшко, повиниться пришла. Солгала я тебе. Это я тебя залила. Стирать стала и залила. А потом как наступила в ванной на пол, то всё и вытерла.
Я уже забыл про залитый потолок и смотрел на старуху недоуменно.
– А тут стала перед исповедью грехи перебирать и вспомнила. Ты прости меня старую.
– Бабушка, а почему у вас ночью свет всегда горит?
– А я его не вижу, – ответила старуха. – Я, батюшко, от рождения слепая.
Она твёрдо пошла по коридору, а я отправился спать. В дверь зазвонили снова. На пороге качался осиной трепетный Норвегов.
– Ты чего? – спросил я.
– Ничего, – сказал он и печально добавил: – Ничего.
Честность была его несомненной добродетелью. Вася никогда не приписывал себе недействительных побед.