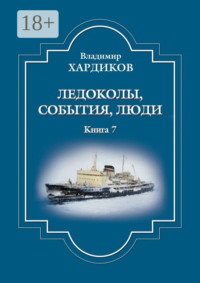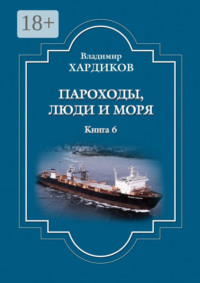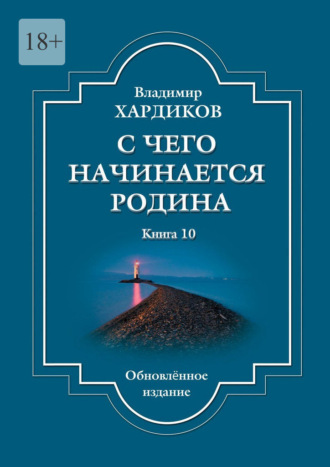
Полная версия
С чего начинается Родина. Книга 10. Обновленное издание
Невозможно забыть поистине эпохальный эпизод, произошедший на судне спустя год после его приёмки на верфи в японском Симидзу. Суда этой серии строились для Советского Союза под красным флагом с приваренными по обеим сторонам дымовой трубы серпом и молотом как национальными отличительными символами принадлежности Стране Советов. По прошествии примерно года работы под советским флагом во время стоянки в Сингапуре пришло распоряжение о перефлагировании парохода под кипрский флаг с нанесением новых символов на трубе. Картина навсегда осталась в памяти свидетелей, воочию наблюдавших за этим трагикомическим событием: боцман на самом верху трубы, находясь на подвеске, срубает металлические штыри, на которых держатся совсем недавно казавшиеся незыблемыми государственные символы. Внизу на невиданное действо смотрят собравшиеся свободные от вахт члены экипажа, и кто-то с «дружеским» подкалыванием произносит: «Тимофеевич, сейчас тебя сфотографируем, а фотографию пошлём в партком!» Тогда партийные учреждения ещё существовали на последнем издыхании, и до запрета руководящей и правящей партии тогдашним президентом Ельциным оставался целый год, но они уже не являлись безоговорочным авторитетом, присвоившим право разделять и властвовать. Партийные функционеры в первую очередь были обеспокоены и напуганы надвигающейся волной всенародного цунами, они уже не являлись блюстителями нравственности плавсостава, и каждый спасался как мог. Совсем недавно выскочившая фраза, да ещё с улыбающейся фотографией боцмана, уничтожающего основные символы государства, могла навсегда покончить с морской профессией дальнего плавания. Но время изменилось, и сейчас она вызвала лишь общий гомерический смех и совсем неблагородное негодование боцмана, крикнувшего, что сейчас он спустится и задаст перцу острякам, после чего с ещё большей яростью продолжал срубать символы, под которыми прошла вся предыдущая жизнь. Поистине картина, достойная кисти большого художника, символизирующая конец целой эпохи в жизни страны, длившейся в течение трёх поколений, знаменующая время нового «великого перелома», в отличие от сталинского 1929 года, когда государство через колено переломило самый многочисленный класс крестьянства, по сути, превратив его в рабов. С того времени и начались постоянные перебои с продуктами питания, которые так и не смогла преодолеть Советская власть, они только нарастали. Фактически сами подложили мину замедленного действия, ставшую одной из главных причин развала Советского Союза.
Не обошлось и без курьёзов: в составе экипажа находились две женщины, одна из которых совсем ещё молодая, но изрядно подпорченная пороками времени, к тому же совсем не Клеопатра, других отличительных особенностей у неё не наблюдалось. Естественно, обе представительницы слабого пола были не от мира сего, курируемые высокими лицами в службе кадров. Пароход долгое время работал в контейнерном варианте в экваториальной зоне под лучами палящего солнца, стоящего в зените и почти не дающего теней. О загаре в таких условиях лучше не задумываться: ультрафиолета в солнечных нулевых широтах ни на йоту, враз можно получить самый настоящий ожог кожи совсем не первой степени. Законы физики неоспоримы и в нашем случае очевидны с практической точки зрения: радужное разложение обычного солнечного света сразу же фиксируется на собственной коже, которая даже при недолгой инсоляции становится похожей на панцирь сваренного краба или рака и вдобавок покрывается болезненными волдырями. Но и тут самая молодая, не знакомая с правилами хорошего тона и не изуродованная интеллектом, представительница обслуживающего персонала, хозяйка половых тряпок и швабр, нашла выход. Судно в основном в каждом рейсе принимало полный груз двадцати футовых ящиков, и на палубе они стояли в четыре яруса, закрывая носовую часть с брашпилем, будучи невидимой даже с мостика. Этот скрытый от чужих глаз уголок и выбрала любительница тропического загара. Незаметно пробравшись на носовую палубу, полностью раздевалась и укладывалась под прямыми солнечными лучами, а в лицо набегал освежающий встречный ветерок от скорости судна. Интересно, какие впечатления испытывали вахтенные на мостиках крупных встречных судов, увидев распятую обнажённую фигуру грешницы, хотя раскаиваться о чём-либо в голову ей прийти не могло. Трудно сказать, как долго она выдерживала режим горячего копчения, но однажды её обнаружил боцман, наведывавшийся в кладовку под полубаком. Увидев картину сильно смахивающую на шедевры Густава Курбе, он на какое-то время потерял дар речи, но вскоре опомнился, сплюнул, вероятно, это был первый и последний плевок на палубу в его морской жизни. В негодовании произнёс что-то подобное: «Совсем обнаглела!», повернулся и ушёл в надстройку и уже в каюте среди своих «гвардейцев» высказался в полный голос. Пляжная любительница, быстренько собрав свои пожитки, бегом по противоположному борту под контейнерами бросилась в свою каюту. После этого случая она на баке больше не появлялась, у неё с боцманом были особые отношения: не очень склонная к труду, и к тому же неряха, она постоянно вызывала его упрёки. Полную картину её образа дополняла одежда: все платьица были настолько коротки, короче и представить невозможно. Они скорее походили на младенческие распашонки, чем на предметы одежды взрослой женщины. Это и вызывало особую реакцию «дракона». Глупенькое и самоуверенное в своей необразованности и невоспитанности существо вызывало лишь пренебрежение со стороны боцмана, он будто видел её насквозь. Основным её партнёром был четвёртый механик – смазливый худющий парень, как выяснилось позднее, подцепивший где-то в Бангкоке или Джакарте СПИД, но ещё не знавший об этом. К тому же он был женат на сестре одного из работников управления эксплуатации сухогрузного флота пароходства. Через несколько лет, уже на родине, он умрёт от синдрома приобретенного иммунного дефицита, но его партнёрша, как и жена, на удивление не заразятся. Можно сказать, вытащили счастливый билет, но едва ли какие-либо выводы для себя они сделали после кратковременного испуга, скорее всего, тут же забыли, хотя Васю было жаль, но он не первый и не последний в их послужном списке. Жена ни в чём не уступала его временной партнёрше и приобрела известную популярность на поприще одной из древнейших профессий. Во многом благодаря терпению и выдержке боцмана экипаж остался управляемым и работоспособным, насытившись по горло морской романтикой хождения по замкнутому недельному кругу, который так любят протраливать выскакивающие из-за филиппинского Лусона тайфуны. За десять месяцев работы в «заколдованном» треугольнике между Тайванем и Гонконгом погибли три совсем немалых контейнеровоза по большей части с экипажами. Малые рыболовецкие судёнышки не в счёт, да и едва ли кому в голову приходила мысль о количестве почивших на дне, разве что родственникам погибших. Непомерная нагрузка была вызвана халатностью и безалаберным отношением к своим обязанностям операторов того же «Совкомфлота», не обеспечивших своевременную смену экипажа, почти вдвое переработавшему контрактное время, замаскировав своё чисто советское отношение к людям под обтекаемым оправданием возникших «дипломатических трудностей». Но это уже другая история, во многом известная из ранних очерков и рассказов, отражённая в первой книге цикла «Район плавания от Арктики до Антарктики».
Как сказал когда-то Фазиль Искандер: «Россия – это зал ожидания счастья», но секрет в том, что никто не знает, когда оно наступит и тем более исполнится. Так и живут поколения за поколениями в ожидании призрачного счастья. Чехов, словно древний оракул, смотрел в далёкое будущее: «Счастья нет, оно лишь для далёких наших потомков!» Да и то далеко не факт – заглянуть в будущее задача сверхсложная. А пока: «И вечный бой. Покой нам только снится» – Иосиф Бродский угодил в самую точку. Александр Блок в самом начале наступающего мракобесия в поэме «Двенадцать», хотя и иносказательно, со скрытой иронией, сказал как отрезал: «В белом венчике из роз – впереди Иисус Христос». Вот и догадайтесь, кого и что он имел в виду, хотя революционные массы безоговорочно видели в образе Христа вождя мировой революции, почти обожествленного Ленина. Как таковое преображение в столь короткий срок могло произойти в глубоко верующей христианской православной стране, где храмов было больше, чем во всём остальном мире? Очень уж быстро свершилась такая нежданная и никем не прогнозируемая метаморфоза. Впрочем, забегая на семьдесят лет вперёд, то же самое произошло в обратном направлении, то есть через три поколения всё вернулось на круги своя, жаль ненадолго, ибо за прошедшие десятилетия накапливающиеся столетиями ценности были утрачены: развратить легко, а потом превратить раскаявшуюся блудницу в Марию Магдалину под силу лишь Всевышнему. Совсем не так, как это было всего лишь триста-двести лет тому назад, когда староверы – поборники протопопа Аввакума, противники реформ патриарха Тихона – предпочитали смерть в огне внутри своих скитов, измене веры. Такие вот двенадцать настоящих апостолов, идущих в будущее, сопровождаемых треском винтовочных выстрелов, разве никого не напоминают? Современная по тому времени «Вечеря», правда, совсем не тайная, а наоборот, явная и вызывающая. В начале советского времени поэму Блока рассматривали едва ли ни как гимн революции, но после того, как поэт осмысливал всё происходящее, в отличие от первоначальных восторгов, приветствующих революцию, и всё больше уходил «вправо» от официальной «левизны», восторги изрядно поубавились. В результате это стоило ему жизни: Блоку отказали в выезде за границу на лечение, потому и умер всего-то в пятьдесят лет. Против выезда на лечение выступил и обожествлённый Блоком вождь мировой революции, тянули-тянули, а через несколько месяцев было уже поздно: поэт обречён. Власть ценит тех, в ком не сомневается, при этом вчерашние заслуги в расчёт не принимаются, будь ты хотя бы известен всему миру и гениален как никто другой, а здесь ты лишь расходный материал. Временные трудности уже более сотни лет никак не желают с нами расставаться, хотя даже долгожители, такие как библейский Мафусаил, тоже временные на нашей планете. «Нет ничего более постоянного чем временное». Человеческая жизнь скоротечна и ограничена: никакие ссылки на «временные трудности» не оправдывают таковые – они лишь являются уловками, цель которых усладить разочаровавшееся в жизни население очередными, никогда не сбудущимися посулами, направить недовольство в иное русло, поводить за нос очередные несколько лет, потом придумать очередные байки «про белого бычка», а жизнь неумолимо утекает и вскоре уже не оставляет шансов на обещанное «потерпеть» и потуже затянуть пояса, куда уж дальше, и так пояс превратился в удавку, а поезд ушёл в небытие. На очереди следующее поколение с такими знакомыми обещаниями. Круг замкнулся, так и ходим по нему вторую сотню лет, и даже лабиринт Минотавра по сравнению с ним представляется детской забавой, там всё-таки была неподкупная и справедливая Ариадна, которой были неведомы обычные человеческие слабости.
Сегодня Вячеславу Тимофеевичу 83 года, но он по-прежнему не сидит на месте: жизнерадостен и деятелен, домашних забот хватает. Работу искать не стоит, она сама тебя найдёт, если является неотъемлемой частью всей твоей жизни. Он и сам представляет собой живую частичку нашей общей истории. Судьба с юных лет не оставила ему выбора, лишив ненужных раздумий и сомнений, назначив собственный путь, о котором он ничуть не жалеет. Пусть таким и остаётся ещё долгие годы! Удачи ему, а жизнелюбия у него и без того хватает, да и принадлежит к тем людям, которые никогда не бывают стариками, – таким родился!
Октябрь 2024Из воспоминаний капитана дальнего плавания Анатолия Байдикова
По следам нашей памяти
«Встречали мы всякие испытания,
И, если б не наши воспоминания,
Как бедно бы мы жили на земле!»
Эдуард АсадовМинуло почти полвека, во что трудно поверить, будто это было совсем недавно, но помять по-прежнему хранит события тех далёких дней, когда строка из спортивного гимна Лебедева-Кумача, наверное, самого «бодрого и весёлого» человека сталинской эпохи: «Чтобы тело и душа были молоды, ты не бойся ни жары, ни холода, закаляйся, как сталь», задорной песни своего времени звучали из каждого репродуктора. У него даже есть стихотворение со знаменитой фразой вождя «Жить стало лучше, жить стало веселее!», произнесённой в Кремле в 1935 году на съезде стахановцев, что-то отдалённо смахивающее на современную «движуху». Такая вот собачья преданность, наиболее вероятно основанная на страхе. Не стоит говорить от имени всего тогдашнего поколения, но воспринимались они по-разному: кого-то по настоящему возбуждали на дальнейшие свершения, кто-то на них никак не реагировал, а кому-то и вовсе досаждали своей настойчивостью, частым повторением и полным несоответствием существующей реальности, ибо жизнь была не такая уж беззаботная, хотя всячески подогревалась эйфорией прекрасного будущего. Всё-таки главным двигательным мотивом являлась молодость, которая в любых жизненных злоключениях – катаклизмах, пертурбациях советского, ограниченного со всех сторон красными линиями, лагеря – находила выход своей жизнерадостности. Тогда энергия брызжет через край, и будущее выглядит в радужных тонах, несмотря на «временные трудности», без которых сама жизнь представлялась немыслимой, ибо эти трудности стали непреложными и обязательными, вошедшими в жизнь целых поколений как естественные составляющие. Не потому ли из дальнего далёка опасные и опасные события как неотъемлемая часть профессии кажутся не такими уж тревожными и пугающими. Действительно вполне по-есенински: «Большое видится на расстоянии. Когда кипит морская гладь – корабль в плачевном состоянии». Но если даже это и так, то не повод разводить руки, всё можно преодолеть, и неразрешимых ситуаций не бывает, что и подтверждает нижеследующее повествование. Люди быстро смиряются с выпавшими на их долю невзгодами, и порог опасности сильно понижается, даже экстремальные ситуации не приобретают злосчастного смысла, от которого дрожат душевные струны, что-то похожее на ходьбу канатоходца под куполом цирка.
Зона ответственности Дальневосточного морского пароходства распространялась более чем на пять тысяч пятисот километров побережья от южного приморского Посьета до арктического устья знаменитой Колымы, о которой сотню лет тому назад мало кто знал. Позднее река прославилась не самыми добрыми деяниями, и даже много лет спустя одно лишь её упоминание приводило в трепет миллионы людей, побывавших на мрачных и диких берегах, но оставшихся в живых, в отличие от менее удачливых, чьи бренные тела упокоились в вечной мерзлоте без каких-либо надгробий и памятников, освободив ни в чём не повинных страдальцев от изнурительного каторжного существования. Само по себе расстояние огромное, а необозримая территория в своём подавляющем большинстве не имела доступности, да и сегодня ненамного лучше, за исключением морского транспорта, а это сотни тысяч тонн самых разнообразных грузов, чтобы не лишить жизни проживающих там людей и не остановить многие жизненно важные для страны горно-добывающие предприятия, извлекающие из недр всю таблицу Менделеева, включая золото, платину, уран, вольфрам, олово. Но прибрежной, много тысячекилометровой полосой побережья зона ответственности не ограничивалась: в неё бесплатным приложением входило множество островов и островков, на которых располагались в основном военные «точки» самого разного назначения. Да и на берегах Чукотки, Камчатки, Сахалина, Курильских островов существовало немало «медвежьих» недоступных уголков, в которые «не заманишь и наградой», даже добраться до них было невозможно, разве что по звериным тропам, не говоря о снабжении всем ассортиментом необходимых грузов. Сроки доставки ограничивались климатическими условиями очень даже своенравного во всех отношениях громадного региона, совсем не тихого океана. Тайфуны, циклоны, землетрясения, туманы, дождевые и снежные заряды, постоянная, никогда не затихающая океанская зыбь, как и неповторимые ледовые препятствия, частью выносимые из Охотского моря или прибрежного припая Камчатки и всё с тех же островов, разнообразили и без того непредсказуемые погодные условия, разобраться в которых никакие изощрённые метеопрогнозы не могли.
Всю большую кампанию по обеспечению беспредельного региона, до которого цивилизация не дошла и едва ли когда-то дойдёт, а если да, то очень не скоро, именовали «Северным завозом». В предыдущих повествованиях цикла «Район плавания от Арктики до Антарктики» немало рассказано о снабженческих рейсах по обеспечению этого самого завоза, но каждый из них особенный и непредсказуемый, никогда не повторяющийся. На этих, полных мужества рейсах были задействованы суда «пионерской» серии и в меньшей степени «волголесы». В отличие от них, особняком располагались пятеро старых необычных пароходов, не вписывающихся в состав флота: «Яков Свердлов», «Иван Бабушкин», «Василий Докучаев», «Николай Островский» и «Николай Чернышевский» бельгийского производства, построенные то ли валлонами, то ли фламандцами, которые очень сильно бы удивились, узнав о будущем районе их работы, почти на противоположной стороне планеты. Со стороны они напоминали «гадких утят» ушедших времён, непонятно каким образом затесавшихся среди серийных однотипных снабженческих пароходов современных форм и конструкций с усиленным ледовым поясом. Отличались не только своим почтенным возрастом 1956 года рождения, два последних и вовсе 1955 года, но и многими другими, по большей части оправданными, различиями. Хотя имелся очень существенный недостаток: закрытие трюмов было допотопным с бимсами-лючинами с тремя слоями брезента поверх них, поэтому закрытие, как и открытие, превращалось в трудоёмкую операцию, занимающую много времени и усилий всей боцманской команды.

Один из «бельгийцев», теплоход «Николай Островский» в снабженческом рейсе, 1978 год
На современных судах закрытия трюмов были механическими или же вовсе гидравлическими, занимавшими совсем немного времени, да и два матроса быстро справлялись с порученным заданием. Но «старички» обладали прекрасными мореходными качествами, складывалось впечатление о предварительных испытаниях их моделей в специальных исследовательских бассейнах, позволивших создать столь идеальную форму корпуса, к тому же экономившую значительное количество топлива. Даже при довольно слабеньком главном двигателе они развивали приличную скорость до 14,5 узлов, что ни шло ни в какое сравнение с судами других массовых серий. Грузоподъемность пароходов около 3 000 тонн, 3 трюма и 2 тяжеловесные стрелы 35 и 25 тонн. Но больше всего впечатлял главный двигатель – оригинальный швейцарский «Зульцер», ни в какое сравнение не идущий с патентованным польским «Зульцер-Цегельски», «усовершенствованным» специалистами на польских гданьских верфях. Мощность всего-то в 2 400 лошадиных сил, но сдаётся, каждая лошадь работала в нужном направлении, не выделяясь из общего табуна, что выражалось в высокой эффективности движителя и экономном расходовании топлива. Но самым большим преимуществом для экипажей являлось отсутствие ледового класса, вследствие чего пароходам была заказана Арктика: далее мыса Дежнёва их не пускали, хотя льдов хватает и в гораздо более низких широтах, одно лишь осознание отсутствия ледокольных подкреплений многого стоит и наводит на заинтересованные мысли – «в Арктику не ходит». Но за этим скрывалось их более универсальное назначение – снабженческие рейсы по всей бескрайней акватории по другую сторону Полярного круга, которая гораздо обширнее, с более широкими сезонными ограничениями, да и погодные условия могут дать фору арктическим, собственным, лишь им присущим своенравием. Навигационное оборудование также было на голову выше отечественного, применяемого на современных судах того времени: отличные секстаны фирмы Plath, высокой точности хронометры, адмиралтейские астрономические таблицы 1951 года, появившиеся у нас только в 1958 году, французские барометры (приборы для определения атмосферного давления), бельгийский лаг (прибор для определения скорости). К тому же совмещённые рулевая и штурманская рубки, в такой компоновке появившиеся у нас только в 1970-х годах, обитаемость тоже была на высоте, включая оборудование кают, мебель, оснащение с обустройством столовой и кают-компании. А в судовой лазарет на экскурсии можно было водить медицинских студентов, насколько он был компактно, практично, удобно, целесообразно спланирован и оборудован. Отношение проектировщиков и строителей этих судов к обитаемости даже в старых проектах заслуживало уважения, на этом они не экономили, всё-таки «корабль – дом родной» и жизненные условия незримо связаны с психологической устойчивостью команды в дальних рейсах, что немаловажно для эффективной эксплуатации судна.
Отдельных слов заслуживает такелаж грузового устройства (все устройства и оснастка, связанные с грузовыми работами), с английскими сверхнадёжными грузовыми блоками, подверженными большим динамическим нагрузкам, пожалуй, самыми необходимыми узлами при работе судна в быстро меняющихся погодных условиях на открытых рейдах, когда качка не оставляет пароход даже в хорошую погоду.
Второй помощник капитана Анатолий Байдиков, проходивший реабилитацию после некоторых проблем со здоровьем, будучи в резерве, обитал в межрейсовой базе плавсостава для не имеющих собственного пристанища моряков, именуемой гостиницей «Моряк», хотя до гостиницы она изрядно недотягивала, более склоняясь к общежитию. В оставшееся рабочее время он, как и все мореходы «без определённого места жительства», обеспечивался жильём на судне, совершенно серьёзно объясняли жилищные невзгоды партийные и профсоюзные комитеты в компании с руководством, уходя от действительного обсуждения самого трудного насущного вопроса, так никогда и нерешённого. Тогда ещё не входу была аббревиатура БОМЖ, в основном употреблялось более либеральное «бичи». Социальные неизбежные обязательства всегда рассматривались по остаточному принципу как что-то обременительное, мешающее выполнению государственных планов. Обеспечение квартирами являлось самым большим и дорогостоящим из всего набора социалки, хотя, если рассматривать шире, то смотря для кого, ибо ответственные за их распределение составляли особую касту. Непросто было понять, говорят ли руководящие деятели это серьёзно или все шутят на своём эзоповском языке, а может быть, издеваются, сохраняя хорошую мину на лицах. Игра в добродетельность стала постоянной ролью, отрепетированной до малейших штрихов, и исполняли её ничуть не хуже профессиональных актёров, сроднившись с ней, как со вторым «я». За окнами начало осени 1975 года – самое лучшее сезонное время в Приморье, когда угомонились туманы с моросящим дождём, скрывающими дневное светило, наводящими тоску и уныние в преддверии не такой уж далёкой зимы. Морская вода хорошо прогрелась, и многочисленные пляжи были заполнены купальщиками и туристами со всех уголков Дальнего Востока, впереди целый месяц наслаждений и водных процедур, люди спешат урвать свою долю солнечной радиации, благо ехать далеко не надо. В это золотое время «ревизора» срочно вызвали в кадры и вручили направление на теплоход «Яков Свердлов», находившийся на рейде Находки в полному лесном грузу назначением на Японию, чем не привлекательный вариант. Летом даже на японские рейсы не просто было найти желающих: народ стремился в отпуска, используя самые изобретательные возможности. Скромный по своим возможностям твиндекер (судно с трюмами, разделёнными горизонтальными перегородками на два отсека), никоим образом не приспособленный к перевозке круглого леса, тем не менее вопреки здравому смыслу частенько использовали именно для лесных перевозок. Погрузку и выгрузку сильно осложняло наличие твиндеков, и операции занимали около недели каждая в отдельности, напрягая грузчиков до седьмого пота при затаскивании брёвен в твиндечные забои (оставшееся ограниченное по высоте пространство в трюме между уже погружённым грузом и горизонтальной поверхностью твиндечного перекрытия), при всего-то немногим более двух тысяч кубов перевозимой древесины. Как известно, плата за перевозку грузов, именуемая фрахтом, взимается за перевезённые тонны или кубометры в нашем случае. Но пароход в любом случае был при деле, и непроизводительных простоев не было, оперативный и диспетчерский отделы знали свою работу, а считать прибыль дело финансистов, и как они посчитают, так и будет, секрет их чародейства они никому не раскрывали, и премии за выполнение плана не заставляли себя ждать – все были довольны.
В тот же день Анатолий отправился в Находку на рейсовом автобусе, не дай бог опоздать к отходу, но по прибытии выяснилось – страхи были напрасными. Пароход нуждался в серьёзном, можно сказать, аварийном, ремонте: на левом борту от якорного клюза на протяжении четырёх метров параллельно ватерлинии и по высоте до полутора метров зияла пробоина, обрамлённая искорёженными листами стальной обшивки как результат недавнего столкновения на выходе из порта в районе «вертушки» в центре зоны разделения движения судов с контейнеровозом «Александр Фадеев». Столкновение произошло при обгоне контейнеровозом в минимальном расстоянии по левому борту «Якова Свердлова». Правый кормовой швартовный клюз усиленной конструкции насадился на лапу левого якоря «бельгийца» с последующим рывком громадной силы, и якорь, прорвав наружную обшивку и якорный клюз с трубой, был заброшен в помещение подшкиперской, находившейся под полубаком, кладовку, где хранились всяческие боцманские и плотницкие запасы от банок с краской до запасных и изношенных швартовых концов. К тому же положение усугублялось наличием лесного груза на борту, ведь только по счастливой случайности пароход не сбросил небольшой лесной палубный караван. Ночная вахта и халатное отношение к своим обязанностям вахтенного второго помощника «Александра Фадеева», почти обогнавшего своего попутчика, но всё-таки успевшего зацепить его мощным кормовым клюзом, который и распотрошил слева носовую часть обшивки вместе с якорной трубой, для чего нужно было очень сильно постараться, применив недюжинные усилия. Как такое могло случиться, даже представить невозможно: множество случайностей, пересёкшихся в одной точке, вылилось в невероятную синергию. Вахтенных вторых помощников обоих судов сняли, а капитаны получили выговоры в приказе по пароходству. Кстати, вторым помощником на контейнеровозе оказался однокашник Анатолия, всегда пунктуальный и въедливый, ранее никогда не решавшийся подвергаться риску, как он умудрился так подставиться, одному богу известно, но, наверное, в самом деле «и на старуху бывает проруха», хотя в буквальном смысле до старухи ему было ой как далеко.