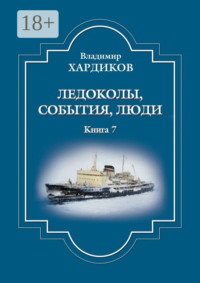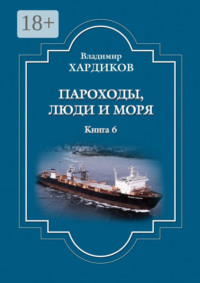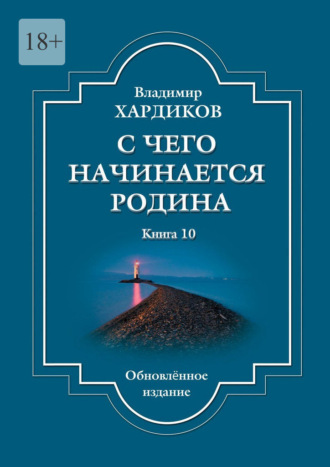
Полная версия
С чего начинается Родина. Книга 10. Обновленное издание
О технологии выгрузки на необорудованный берег силами экипажа в очередной раз рассказывать не стоит, она неоднократно описана в более ранних рассказах уже вышедших книг: трюм – баржа – трактор – берег, вот и весь путь, хотя короткий на словах, но сколько опасных, подчас, драматичных, а случается и трагических трудов, он требует, прежде чем груз будет доставлен получателю. Ротация, она же последовательность выгрузки в разных «точках», стала известна перед самым отходом, и от неё в немалой степени зависела успешность всего рейса, ибо специфические метеорологические условия в них никак не попадают под общий знаменатель, у каждой есть свои особенности, ничего общего не имеющие с остальными, даже рядом находящимися. Раздача привезённого добра начиналась с ближайших островов Курильской гряды: Шикотан, Кунашир и далее по всем курильским островам, исключая острова Онекотан и Атласова, до острова Шумшу. К ним добавились две известные «точки» на восточном берегу Камчатки – Хатырка и Майнипыльгино.
Приключения в духе Фенимора Купера или Вальтера Скотта начались сразу же после прибытия, совершенно неожиданно для всех действующих лиц – с острова Шикотан. Женщина-медик из бассейновой поликлиники, впервые оказавшаяся в роли судового доктора, да ещё в таком сложном рейсе, вероятно, решившая подзаработать, попросилась съехать на берег и посмотреть на Курилы в непосредственной близости, что называется «потрогать собственными руками». К тому же районный коэффициент добавляется, да и за самовыгрузку всем членам экипажа причитается заранее согласованная и оговорённая доля, или, как часто называют, пай. Любопытство – ценное человеческое качество, к сожалению, свойственное далеко не всем, без него едва ли бы наши далёкие предки превратились в homo sapiens, то есть стали разумными людьми, да и последующее развитие цивилизации зиждилось на нём. Доктора проинструктировали об особенностях поведения на острове, разительно отличающихся от того же в большом городе, и почему бы нет, пусть посмотрит, не отходя далеко от парохода. О столь удивительных различиях с обычными условиями её прежнего проживания она едва ли могла вообразить, даже после проведённого инструктажа, – слишком резкая перемена. Одно дело, когда читаешь или тебе рассказывают, а совсем иное, ежели сталкиваешься вплотную, лицом к лицу, и всё вокруг тебя приобретает реальный осязаемый смысл, в отличие от иррационального, который вроде бы существует, но где-то вдалеке, не касаясь тебя. На первой же барже в компании с перевозимым трактором она высадилась на берег, будучи первооткрывателем неизвестных мест, по сути дела, terra incognita – неизвестная земля. И надо же было такому случиться по какому-то сверхъестественному наваждению или редчайшей случайности: на первом подъёме в гору совсем недалеко от линии прибоя ей повстречался бурый медведь – хозяин и абориген здешних мест, здесь родился, здесь и умрёт. Известно, любое живое существо хищники рассматривают как свою потенциальную поживу. Кого-кого, а косолапых на острове хватало. Мишка вначале опешил, не часто бывает, когда ничего не подозревающая добыча сама направляется к тебе, но вскоре продолжил неспешное сближение, а маленькие, глубоко спрятанные глаза приобрели совсем уж нехороший оттенок, инстинкт хищника уже не оставлял без внимания возможную жертву. Вахтенный второй помощник с мостика наблюдал за высадкой первого десанта и, заметив медведя, начал подавать сигналы судовым тифоном, который и мёртвого разбудит. Ему тоже пришлось понервничать из-за опасения возможной встречи судового медика с капризным диким хищником, не сулившей ей ничего хорошего, но ничем другим помочь вполне вероятной жертве не мог, а с медведем шутки плохи, недаром его считают самым непредсказуемым диким зверем. К сожалению, по стечению обстоятельств, первые десантники были заняты вытаскиванием баржи на берег трактором, работа которого заглушала сигналы тифона, и старшина баржи также не мог услышать его вызовы по портативной радиосвязи. К счастью, работавший трактор тронулся в направлении той же тропы, по которой поднималась судовой доктор, и медведь остановился, будто раздумывая, как поступить дальше, и хотя до встречи с чужеземкой оставалось совсем немного, но врождённое чувство опасности победило, и он попятился назад в островные заросли, возможно, и находился в благодушном настроении после вкусной трапезы: еды на острове всеядным хищникам хватало, а соперников у них и вовсе не было. До смерти перепуганная доктор, у которой подкосились ноги, и она впала в жёсткий ступор, словно заколдованная взглядом василиска, не в силах двинуться с места, ибо страх парализовал каждую клеточку её тела, кубарем скатилась с горы и лишь тогда задала стрекача, вновь обретя подвижность, а потом не отходила от баржи, с нетерпением ожидая окончания её выгрузки, с опаской оглядываясь по сторонам – а вдруг появится ещё один косолапый. Сидела как на иголках: беспокойство и непрошедший испуг подгоняли незамедлительно отправиться домой, на судно, в такую родную, тёплую и безопасную каюту. О пережитых волнениях она не рассказала никому, и стоит только догадываться, что ей пришлось испытать. Хорошо, сердце оказалось в порядке, а то бы и до инфаркта недалеко. После перенесённого потрясения её тяга к исследованию островных территорий исчезла напрочь, и вплоть до возвращения во Владивосток на берег она не покушалась ни левой, ни правой ногой, предпочитая смотреть по телевизору программы из жизни животных или клуба кинопутешественников. Путешествия Владимира Арсеньева, Николая Пржевальского и Николая Миклухо-Маклая уже не вызывали у неё священный трепет и ощутимое чувство зависти о непричастности к их открытиям и исследованиям самых таинственных и труднодоступных уголков планеты. Тигры, папуасы и дикие мустанги уже казались совсем не безобидными зверюшками, а дикари с острова Новая Гвинея и вовсе каннибалами, охочими за человечиной. Надо полагать, случившееся запомнила на всю жизнь как самое ужасное происшествие, приключившееся когда-либо с ней. Владимир Высоцкий в комментариях к одной из своих бардовских песен со свойственной ему иронией очень просто объяснил вспыхивающие среди племён конфликты, со стороны выглядевшие изощрённым варварством, а по их обычаям являющимися всего лишь старой традицией, пришедшей от пращуров: «Как кончатся запасы мяса, так и начинается война». Такая вот шутка с большим подтекстом.
Выгрузка крупного рогатого скота, как и тяглового поголовья, заслуживает отдельного рассказа, да ещё с произошедшим казусом в стиле Максима Горького. Для выгрузки животных использовали прочную крупноячеистую растительную грузовую сетку, разложенную на палубе. Посередине укладывали брезент, чтобы не повредить брюхо животных о сеточные ячеи, ибо весь вес животяги более полутонны будет опираться именно на неё. Ничего не подозревающее животное заводили в центр сетки, так, чтобы его брюшная полость располагалась над брезентом, а ноги спокойно провисали через крупную ячею, и начинали медленно поднимать сетку. Когда ноги коровы или лошади начинали отрываться от привычной твердой опоры, тут и наступала самая настоящая паника, которая продолжалась совсем недолго, в таком положении парнокопытные коровы и непарнокопытные лошади вели себя одинаково. Животные были беспомощны и, немного подёргавшись, не чувствуя каких-либо дополнительных болезненных ощущений, мирились с дальнейшей участью – будь что будет – немного успокаивались вплоть до высадки на берег, лишь вытаращенные, от того казавшиеся ещё более огромными, наполненные ужасом глаза выдавали их состояние. Оказавшись на берегу, задрав хвосты, со ржанием и оскорблённым мычанием мчались куда глаза глядят, выражая возмущение столь безобразным к ним отношением.
Старший помощник капитана, ветеран флота Василий Иванович, полный тёзка комдива 25 Чапаева из сословия вечных старпомов по причине отсутствия высшего образования, был очень опытен в подобных перевозках, можно сказать, профессионал и знаток своего дела, ему было уже за пятьдесят. За свою моряцкую жизнь он перевёз не одно стадо домашних животных в труднодоступные уголки тихоокеанского побережья, можно сказать, был самым крупным специалистом в Охотоморье и на островах по перевозке крупного рогатого или вовсе безрогого, как и более мелкого скота, чем-то напоминая укротителя крупных хищников из кинокомедии «Полосатый рейс». Во время подъёма животин являлся сигнальщиком, находясь у фальшборта, чтобы его видел лебёдчик и выполнял нужные эволюции контролёрами обеих грузовых стрел. Не хватало только ранить какую-нибудь скотинку на финальном этапе их путешествия. Одна обезумевшая корова при подъёме сетки опросталась жидким содержимым её немалого желудка, опорожнив его на находящегося внизу старпома, уделав с головы до ног ничего не подозревавшего «чифа», после чего тот под гогот рабочей бригады понёсся под душ в полной амуниции. Как тут не вспомнить то ли анекдот, то ли быль, приписываемые Максиму Горькому. Пролетающая птичка уронила каплю на его лоб, вытираясь носовым платком знаменитый пролетарский писатель произнёс: «ХОрошо что кОровы не летают». Как выяснилось, летают, да ещё с «медвежьей» болезнью в воздухе. Оказалось почти как в старой, далеко не изысканной, грубоватой народной прибаутке: «Разрывается мешок с дерьмом – и тут я, весь в белом!»
На острове Итуруп и вовсе возникла тупиковая ситуация, хотя даже Киса Воробьянинов, не отличавшийся сообразительностью, будучи в отчаянном положении, изрёк: «Торг здесь неуместен», выдав до сих пор часто повторяемую крылатую фразу, столь нехарактерную и нежданную для него самого. Оказывается, ещё как уместен, не везти же кавалерию обратно, да и кому её сдашь, своей-то конюшни нет, нужно помещиком быть, коих ликвидировали как «класс» уже более пятидесяти лет тому назад. На острове могли принять только коров, но ни лошадей, нужды в которых не было, после получения долгожданного тягача надобность в конно-гужевом транспорте отпала, и прибывшие «мустанги» оказались не у дел. Заявками на снабжение военных «точек» занимался целый отдел штаба Дальневосточного военного округа, находящийся в Хабаровске, и снабженцы, недолго думая, перепечатали предыдущую заявку без изменений, хотя уже целый год как «железный конь пришёл на смену крестьянской лошадке», как вещал с трибуны товарищ Бендер Остап Ибрагимович, сын турецко подданного, лидер гонки во время торжественной встречи на одном из пит-стопов известного автопробега по бездорожью. Между тем лошадиная история имела следующее продолжение: «ревизор», он же грузовой помощник капитана в компании лошадей и коров, убыл на берег для подписания документов, подтверждающих сдачу конской тяги в здравом телесном состоянии и их получение новыми хозяевами в погонах. Перепуганные после выгрузки на баржу животные ещё не отошли от пережитого стресса и, едва только плавучее средство уткнулось в берег, а носовая рампа сравнялась с урезом воды, с места галопом и едва ли не со слезами на глазах от обуявшей их радости рванули на песчаный берег. Поджидавший баржу сверхсрочный прапорщик наотрез отказался подписывать документы на выгрузку, мотивируя ненужностью конского состава, отсутствием заказа и корма. Но если он всё-таки в числе доводов указал отсутствие кормов, то оставалась какая-то надежда его уломать, ведь привезённого сена вполне хватило бы на год. Анатолий едва не впавший в уныние, несколько воспрянул, появился шанс справиться с прапорщиком, к счастью, не владевшим элементами дипломатической логики. Тут же ему показали погрузочные документы, проинформировав о кипах прессованного сена.
Но и этот, казавшийся выигрышным довод не подействовал, служака оказался на редкость упрямым, напоминающим ишака из гайдаевской комедии «Кавказская пленница», хотя наверняка зародил кое-какие сомнения в душе рачительного островного хозяйственника, а может быть, и лодыря: не хватало ему только возни с лошадиной тройкой. Для снаряжения настоящей выездной командирской «тройки» не было ни саней, хотя снега хватает на целых девять месяцев, ни упряжи, да и ездить не к кому: соседей на острове не было. Таким образом, запасной вариант использования рысаков в качестве выездного экипажа тоже отпадал. Оставалось лишь переменить тактику и попробовать убедить прапора с позиции силы, ибо не такой уж он знаток психологии штабных снабженцев, которые не просто так отправили лошадей, всё-таки большое начальство непредсказуемо, и как оно посмотрит на откровенное непослушание, даже если само дало маху, вопрос непростой, но уж точно вину свою не признает. Когда же на его глазах попытались загнать животных на баржу для доставки на судно, то они в страхе шарахались по сторонам, одну кобылу даже пробовали тащить лебёдкой, но она упёрлась всеми четырьмя копытами, и ни в какую, не отрывать же ей голову. В конце концов всю тягловую силу оставили на острове, запугав прапорщика страшными карами, морским протестом, реакцией далёкого начальства и прочей чепухой. В нашем случае чем больше глупой околесицы было обрушено на его небыстро соображающую голову, тем лучше, ибо переварить весь этот бред он не мог: как говорят «ум за разум заходил». Сено тоже выгрузили, подтверждая свои честные намерения и внушая ему уверенность и отсутствие дополнительных забот по обеспечению животных кормами. Всё-таки странно выглядела ссылка прапорщика на отсутствие кормов: на острове трава и в самом деле по пояс, коси не хочу.
Хватило забот с выгрузкой офицерских жён на острове Матуа. Если издалека всё заслоняла радость от скорой встречи, то с прибытием восторг несколько поутих, да и островок не производил радужного впечатления, по размерам до Калимантана ему было как до Луны, со всех сторон окружённый совсем неласковым морем, и бананы на нём явно не росли. Но выбор сделан, и они уже прибыли, а разочарования и скандалы будут потом, не мешайте тетеревам токовать в сезон, когда их ничто иное не интересует. Трудно сказать, как сложились их дальнейшие судьбы, но совершенно ясно – завидовать нечему, ибо на некоторых островах не было даже пресной питьевой воды, приходилось использовать дождевую, фильтрующуюся в колодцах, построенных ещё японцами во время владения всей Курильской грядой после русско-японской войны 1904—1905 годов и до 1945 года, когда она вновь перешла под контроль СССР после капитуляции Японии. Общее впечатление о наших военнослужащих на далёких от цивилизации точках производило угнетающее впечатление. Несмотря на привлекательные льготы службы в столь отдалённых уголках, деградация людей была налицо, иные совсем опускаются, и воинство превращается в самых настоящих то ли пиратов, то ли анархистов. Особенно это касается подразделений, в которых офицеры пускаются во все тяжкие, тогда и вовсе служба превращается в какую-то пародию, далекую от её истинного назначения. Рядовым и прапорщикам ничего другого не остаётся, как следовать своим офицерам, недаром говорят: «Каков поп – таков и приход».
Северный завоз – особая широко не афишируемая ипостась, ибо гордиться героическим трудом непонятно для чего, в голову не приходит, можно только соболезновать людям, обреченным на выполнение совсем не присущих им обязанностей. Недаром известный острослов Михаил Жванецкий сказал: «Подвиг одних – это всегда преступление других!» Работа в сложных условиях непогоды, когда остаёшься один на один со всеми необузданными силами природы в не самых благоприятных краях на задворках империи. Каторжный труд сам по себе противоречит устоявшимся традиционным представлениям о его воплощении в жизнь в конце XX века, который преподносится в стране победившего социализма как «дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». А вы не знали? Вот и попробуйте ощутить его на своей шкуре: слава, доблесть и геройство, не говоря о чести, покажутся вам «небом с овчинку», а проще говоря, скрытым фарисейским издевательством с выспренными словами над человеческой сущностью в просвещённый век. Пора бы и честь знать, понимая, что ты работаешь до полного изнеможения, рискуя всем, включая саму жизнь, а кто-то произносит набившие оскомину насквозь лживые лозунги, словно бы посмеиваясь над тобой, и покровительственно похлопывает по плечу «молодец парень, дерзай, продолжай в том же духе, а Родина, под которой они понимают самих себя, вас не забудет». Очень неуютно становится на душе от этих невысказанных, но подразумеваемых фальшивых похвал. Так и хочется чем-то возразить, весь организм протестует, выкрикнуть что-нибудь непечатное и послать подальше, чтобы не показаться со всем соглашающимся беccловесным существом.
Работа с баржами, тракторами и судовым грузовым устройством в условиях необорудованного берега двенадцать часов через двенадцать, среди частых туманов, дрейфующих льдин и идущим с моря волнением даже в благоприятную погоду, с малоквалифицированными трактористами, старшинами барж, да и набранным с бору по сосенке экипажем, удваивает и без того подстерегающую на каждом шагу опасность для судна и людей. На каботажные суда, да ещё с самовыгрузкой, направляли нарушителей на исправление, что-то вроде колонии общего режима. К ним присоединяли неопытную молодёжь, зарабатывающую характеристики для получения допуска к загранплаванию, выпускников мореходных училищ в качестве баржевиков, но не имевших ни малейшего опыта, зачастую видевших самоходные баржи впервые. Случаи гибели людей были не так уж и редки: на многих островах, побережьях Камчатки и Чукотки встречались самодельные примитивные памятники мореходам, погибшим в жестоких условиях северного завоза.
Но приближалась зима, и ледостав набирал силу, спускаясь всё южнее, пока не оставил без зимнего савана только Японское море, лишая «завозников» их основной работы до следующей весны, да и спущенные сверху задания по снабжению «точек» были выполнены как очередная победа в трудовой «битве», конца которым не было видно. Так вот и живём: от победы к победе, от битвы к битве, непонятно для чего каждый раз сражаясь из последних сил. Окончания этой непрерывной войны в обозримом будущем не предвидится, ибо она приобрела перманентный характер. В период межсезонья списывались все каботажники и приходили старые визированные кадры, специалисты по «домашним» рейсам, но совсем не герои, да и не претендующие на геройство, они-то цену постоянно повторяющемуся шоу знали прекрасно – «старого воробья на мякине проведёшь». Тогда и начинал пароход работать на ближнюю «заграницу», выполняя рейсы, о которых упоминалось выше. Об одном из них стоит упомянуть особо, хотя, по сути, он не очень и выделялся среди себе подобных.
О перевозках хлопка, или, как его ещё называли по незнанию, джута, в кипах из северокорейского Раджина уже упоминалось, и общий подход властей к погрузочным операциям опасного груза очевиден, но каждый случай по-своему интересен. Вот и на этот раз тот же самый груз назначением на Японию. Перед погрузкой обязательный инструктаж с переводом на корейский язык судовым агентом, на видном месте на передней площадке трапа отпечатанная инструкция о запрете курения в трюмах из-за опасного в пожарном отношении груза. Но стоило грузчикам спуститься в трюм, как начиналось повальное демонстративное курение сигарет местного «бренда», от дыма которых перехватывало дыхание, сидя на хлопковых кипах при полном попустительстве властей и портовского начальства, хотя трудно разобрать, кто из них кем является. Очень уж сильно походит всё мелкое и крупное руководство на работников спецслужб, не имеющих никакого отношения к деятельности портовиков по их прямому назначению. Что касается курения, то кто знает, может быть, таким образом обычные голодные работяги мстили Советам за привезенного и навязанного ими вождя, который превратил страну в мирового изгоя и концентрационный лагерь для своих подданных, вполне возможно, в этом и есть толика истины. Как бы ни так, но основание уже укоренившейся династии в стране, строящей социализм, вовсе выходит за рамки всех теоретических обоснований, и никаким «человеческим лицом» этот парадокс объяснить нельзя, разве что сослаться на специфичные азиатские особенности, ибо даже отдалённых, чуть-чуть похожих аналогов в мировой истории не усматривалось. Можно сказать, новый вклад в дальнейшее развитие марксизма-ленинизма. Недаром основоположники новой религии, Маркс и Энгельс, изрядно подстраховали себя: «Наша теория не догма, а руководство к действию!» Таким образом, для многих появившихся позже божков и царьков нашлось теоретическое оправдание, а за практическим исполнением дело не стало. Трюмные матросы во главе с грузовым помощником всячески пытались бороться с потенциальными поджигателями, ругались с бригадирами, писали протесты агенту, но безрезультатно, сродни «гласу, вопиющему в пустыне». Голодные грузчики постоянно озлоблены, несмотря на старания сочувствующих членов экипажа подкармливать некоторых. Трудно было ждать от такого сердоболия какого-либо проку, стоит лишь кому-то прекратить курение, как те, которым не достался кусок хлеба сразу же, донесут на соседа, и тогда с ним церемониться не будут, у них это быстро делается – учителя были хорошие. Вот и приходится ему подстраиваться под своих «друзей», дабы не попасть под подозрение. Уже в Японии во время выгрузки обнаружили две повреждённые кипы хлопка, одна и которых выгорела под обшивкой полностью, до пепла, а вторая только занялась, но погасла. Хлопок опасен тем, что горит без доступа воздуха, и случись пожар в трюме, никакие противопожарные средства не помогут, остаётся лишь полностью залить трюм водой. На обеих кипах обшивка выгорела в виде отверстия около пяти сантиметров в диаметре с окурком в пепельном углублении. Несчастные грузчики всё-таки отчасти удовлетворили свою злость, подбросив подлянку судну и мореходам. Непонятным выглядит отношение властей, по сути дела, потворствующих таким выплескам злобы, но это касается лишь иностранных судов с их грузами, в противном случае, стоит только кому-нибудь из них подобрать и прикарманить на дороге ржавый гвоздь, тут же последует расплата по всей строгости законов страны, гвоздь-то – собственность государства, а не какой-то иностранный подданный. Похоже, таким образом власти способствуют выбросам отрицательной энергии, создавая образ внешних врагов, мечтающих захватить и поработить империю Кимов, проще говоря, переводят стрелки. Из-за козней внешних врагов страна и вынуждена жить в постоянном напряжении, отказывая себе во всём, очень даже знакомая идеология, дающая стопроцентный результат, можно сказать, работает без осечек, и никакие грабли не помогают уже многие десятки лет. Нет смысла её менять, если она действует столь безотказно, было с кого взять пример. К счастью, переход до Страны восходящего солнца был недолог, всего-то полтора суток и возгорание не успело распространиться на соседние кипы, да и отчасти повезло: погрузка производилась при моросящем дожде, и обшивка кип увлажнилась, не дав вспыхнуть открытому огню. Хлопок, вначале не горит, только тлеет, и может пройти несколько суток, после чего прорвутся языки пламени.
Японские грузчики, обнаружившие поврежденные кипы, позвали Анатолия и, указывая на начавшиеся признаки возгорания, к счастью, не получившие дальнейшего распространения, только цокали языками и крутили головами, явно удивляясь мерзостям их старых «заклятых» друзей, с которыми у Страны восходящего солнца были давние счёты. Справедливости ради, инициатором раздора являлась Япония, ставшая на военные рельсы и мечтавшая покорить всю Юго-Восточную Азию ещё в начале XX века, за что пришлось горько расплачиваться, слишком большим оказался лакомый кусок, проглотить который не удалось даже при всей предприимчивости, мобильности и мощи японской военной машины. Последствия нападения на главную Тихоокеанскую военно-морскую базу в США в Пёрл-Харборе оказались катастрофическими и надолго охладили воинственные порывы самураев, в итоге заставив изменить Конституцию страны и навсегда прекратить агрессивные намерения милитаристских кругов, в которых ещё жили воспоминания о военных правителях страны – сёгунах – и их ярых приверженцах из военного сословия – все тех же самураев. Основным занятием воинствующих военных правителей на протяжении сотен лет являлась война, а император (микадо) был всего лишь формальной фигурой, лишённой реальной власти, которая вновь перешла к нему после революции Мейдзи в конце XIX века, но афтершоки вскоре вновь напомнили о прежних устремлениях. Если раньше из-за закрытости страны междоусобицы между кланами непрерывной нескончаемой чередой вершились внутри страны, то после открытия агрессия направилась на соседние страны – Китай, Корею, Монголию, внутри страны возросшим аппетитам было тесно. Но это совсем другая история, уводящая в иные события не такого уж давнего прошлого.
Такова лишь небольшая часть трудовой деятельности из долгой эксплуатации одного из «старичков бельгийцев» и его экипажа, оставшаяся в памяти. Надо полагать, и оставшиеся четыре близнеца прошли суровую Дальневосточную школу мужества, не уповая на поблажки и районные коэффициенты советской окраины, вместо гораздо более комфортных западноевропейских условий. На пенсию по старости их не отправляли независимо от рабочего стажа, впереди ждала только разделка на металлолом и дальнейшее существование, воплощённое в иные продукты человеческого труда. Впрочем, это обычный путь трудяг-пароходов, которым не было суждено утонуть или сгореть, на человеческом языке: им посчастливилось «умереть в своей постели», исполнив назначенный долг до конца.