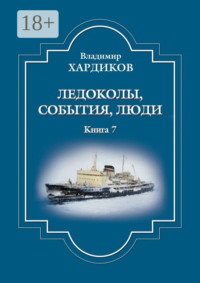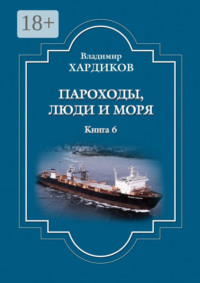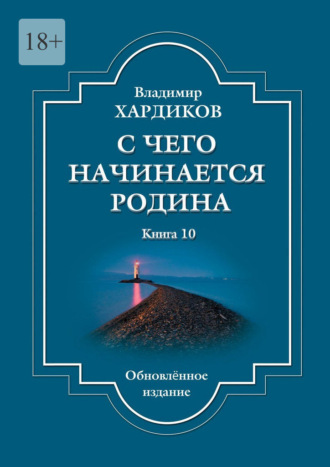
Полная версия
С чего начинается Родина. Книга 10. Обновленное издание
Работа простым матросом не заняла много времени, и через несколько лет он уже стал боцманом, хотя, увидев его, никому и в голову прийти не могло даже намёка на настоящую профессию: слишком неподходящим, скорее, нетипичным он выглядел по сравнению со сложившимися стереотипами. Вячеслав резко выделялся среди коллег всего пароходства и, может, был самым неординарным представителем своей специальности, нарушая все давно принятые каноны. Язык, как средство общения, скорее всего, чем-то напоминал школьного учителя словесности, чем таинственного представителя своего племени, вокруг которого сложено столько легенд, мифов и небылиц, никоим образом не подтверждая укоренившийся стереотип «ругается как боцман». Он больше походил на директора сельской школы с успехом управляющегося с женским коллективом учительниц, между которыми хватает местных междоусобиц. Хотя за словом в карман не лез, но нецензурщины от него не услышишь. Несмотря на кажущуюся щуплую фигуру, матросы и все подчинённые, включая обслуживающий персонал, слушались «дракона» с одного слова, что поначалу казалось странным, но вскоре все привыкали и принимали такое общение как само собой разумеющееся. В отличие от многих соплавателей, море стало его самой настоящей отрадой, человек нашёл самого себя, и если вначале казалось лишь детской блажью, то со временем превратилось в занятие всей жизни, без которого и помыслить невозможно, как и отделить от самого себя. Нет и тени сомнений, окажись он в иной ипостаси, сухопутной, воздушной или прочей, везде бы оказался к месту.
Обычно плавсостав судов не призывали на действительную службу в армию и на военно-морской флот, работающим в море и без армейской муштры было гораздо тяжелее, но с приходом нового генсека Брежнева хрущевские эксперименты по сокращению действующей армии закончились, и что-то поменялось в стратегии вооружённых сил страны, известно, что новая метла по-новому метёт, потребовалось увеличение армейского контингента, и прежние отсрочки приказали долго жить. Под ту метлу попали многие, включая студентов и выпускников вузов, особенно морских, желания которых никто не спрашивал. Немало выпускников учебных заведений попали под жернова этой мельницы, изрядно подпортивших судьбу и личные планы. Тогда-то и загремел на действительную срочную службу Вячеслав, будучи уже не в юношеском возрасте. Взяли из плавсостава, к тому же женатого. Женился в своём посёлке по любви и позднее, когда оказался в составе отечественного воинства, писал жене полные любви и тоски письма. Она же занимала немалый по районным масштабам пост директора местного районного дома культуры и делилась их содержимым со своей подругой, женой секретаря райкома, что выяснилось уже после окончания армейской службы. Мирок районной «аристократии» очень узок, и все знают обо всех. Армия его ничем не удивила, разве что свободного времени стало больше и ни о чём не нужно было думать, ему, с детских лет приученному к труду, служба была не в тягость, жаль лишь потерянных лет, ибо ничего нового не приобрел. Отдав родине назначенный по её усмотрению долг или «срок», вернулся к своей прежней профессии, море уже крепко повязало его. Во время одного из отпусков, вспомнив детские и школьные годы, отправился с тестем на корнёвку – поиски настоящего дикорастущего женьшеня, тогда ещё не было искусственно выращиваемого, как кристаллы алмазов. Изо всех дальневосточных живительных дикоросов – лимонника, элеутерококка, гриба чага и прочих – «корень жизни» является бесспорным лидером, как золотой самородок по сравнению с обычными золотинками. Женьшень, столь популярный и ценный в таёжных чащах Дальнего Востока, Корее и Северном Китае, представлялся самым желанным трофеем для его копателей, ибо каждый мечтал найти большой корень в сотни граммов возрастом под сотню лет и сразу обогатиться. Цена его была заоблачной, и чем массивнее и старше был найденный корень, тем большим спросом он пользовался, да и стоимость максимальной. Но найти в непроходимой тайге природный клад было не так-то просто: маленькие светло-зелёные листочки живительного корня умело маскировались – сама природа скрывала его от сухопутных «джентльменов удачи». Найти подходящее растение с корнем, напоминающим человеческую фигуру, как у мандрагоры, придававшей какой-то дополнительный ореол неизвестной эзотерики, редко кому удавалось, а если везло, тогда счастью не было конца.
Во время «тихой охоты» Вячеслав с тестем столкнулись с настоящими охотниками: разговорились, и среди них оказался секретарь райкома партии, сообщивший, что знает Вячеслава через свою жену, подругу его супруги. От этих слов Вячеславу стало совсем некомфортно, на душе заскребли кошки, он быстро смекнул: наверное, его жена делилась содержанием писем, отправленных им во время плаваний из промежуточных портов захода, со своей подругой, а та, в свою очередь, с мужем – секретарём райкома. У женщин тайны так и норовят вырваться наружу, если это касается близких подруг, и у тех язык тоже не на привязи. Кому может понравиться, если в глубоко интимную переписку между двоими посвящён ещё кто-то. Наверное, это и послужило причиной первой глубокой трещины в его отношениях с женой, которые после семилетнего брака закончились разводом. Но это будет потом, а пока секретарь попытался уговорить нового, старого по домашним письмам, знакомого, завязать с морями и тут же для убедительности предложил Вячеславу пост редактора районной газеты, что можно было принять за неуместную шутку, но оказалось самой настоящей правдой, без дураков. Видимо, у него были свои помыслы на этот счёт, ибо импульсивно подобные решения не принимают. Такому взлёту мог позавидовать любой из бывших корифеев и профессиональных работников пера местного масштаба. Видимо, руководителя района очень уж привлекли и заворожили домашние письма подруги его жены, по-иному и быть не могло, тем более районная газета являлась ближайшей помощницей, рупором и глашатаем секретаря райкома партии, руководящей и направляющей. А ведь требования к редактору районной газеты даже в медвежьих углах были строгими и конкретными, у партии всё было под контролем, и даже самые потаённые местечки были зачищены. Но несмотря на хорошо известные секретарю препоны, он шёл на заведомое нарушение всех критериев, подвергая свою карьеру очевидной опасности, хотя, по всей видимости, понимал, что дальше этого «медвежьего» угла едва ли куда ещё могут сослать. Вдвойне удивительно столь спонтанное решение, способное повергнуть его на столь очевидный риск. Помимо отмеченного, возможно, он не надеялся на очередь желающих занять важную в районе должность лицами с университетским образованием. Впрочем, никто, кроме него, ответить на эти вопросы не смог бы. Остаётся предполагать: виной тому являлся литературно-художественный стиль автора, который даётся далеко не каждому и служит лакмусовой бумажкой, привлекающей читателей. Вполне естественным прозвучал отказ Вячеслава: предложи ему даже должность заведующего районным потребсоюзом с неограниченными возможностями по «доставанию неликвидов», он и тогда бы отказался, ибо был в плену у моря и никакие преимущества сухопутного существования его не прельщали. На протяжении всей его морской бродячей жизни требования, уговоры и аргументы родных и близких покончить с мореплаванием не дали каких-либо осязаемых результатов и даже не посеяли в душе малейших колебаний, наоборот, они лишь укрепили его в правильности выбранной профессии. Все три дочери с присоединившимся к ним позднее внуком, с которыми у него были доверительные близкие отношения, не смогли переубедить упрямого отца. Он быстро наложил табу на все попытки отлучить его от морской кочевой жизни, предпочитая впредь не трогать запретную тему.
Таким он и остался на протяжении всей долгой насыщенной жизни и расстался с любимым делом уже после значительного превышения возраста над пенсионным, когда от пароходства остались «рожки да ножки». Да и само пароходство стало лишь филиалом самого себя. Начальству всегда хочется быть в столице, поближе к «верхнему» руководству, попасть в список избранных и приближённых, и это несмотря на девять тысяч километров от основного предприятия: выглядит и вовсе несуразным, но никто не возразил – команды не было. А проявить инициативу снизу, предложив создать филиал в Моcкве, никто не решился, а не перенести его в златоглавую, где и без пароходства всего с избытком, – посадить могут, пришив белыми нитками статью покруче, наподобие экстремизма и т. д. Понятно, сразу же последует куча обоснований профессоров и академиков и прочих экспертов в целесообразности содеянного, но тогда зачем называть судоходную компанию «Дальневосточное морское пароходство»? Москва, хотя и порт пяти морей, но ни Японского моря, ни Тихого океана среди них не было до этого. Природа не подчиняется указаниям верховного начальства, океаны и моря не станут ближе к стольному граду, несмотря ни на какие руководящие указания. Спросите мнение любого владивостокца, каково ему видеть этот беспредел: присвоение своей истории совершенно сухопутной столицей, находящейся в девяти тысячах (!) километров. Но никто не спрашивает, даже в голову такая ересь не придёт в самом кошмарном сне – всеобщий «одобрямс». Как грибы после дождя расплодились мелкие частные судоходные компании, главным в которых являлся не профессионализм, а «лояльность» к компании и её руководителям. Не странно ли, почему они состояли из недавних пароходов развалившихся пароходств? Подумаешь, всего лишь процесс перехода государственной собственности в частные руки c одним «незначительным» добавлением – «бесплатный». Не оказался ли гротеск немецкого сказочника Гофмана о крошке Цахесе, написанный более двухсот лет тому назад, самым настоящим предсказанием? Впрочем, это станет ясно гораздо позднее, а пока ничего подобного никому в голову не приходило, да и думать было некогда, нужно хватать, пока не поздно. Даже ему, многое повидавшему и привыкшему адаптироваться в любой обстановке, вновь образовавшиеся отношения явились ножом по сердцу, с которыми не мог смириться даже при всей своей способности выживать в любых условиях. Прежде всего поражали какая-то отстраненность и индифферентность, полное отсутствие обычных человеческих качеств к окружающим, будто к бурлакам на Волге, тянущим свою лямку. К глубокому сожалению подобные отношения понемногу распространялись и на судовую команду, каждый приспосабливался как мог, стараясь не очень распространяться среди себе подобных. В короткое время с поражающей быстротой, как простейшие амёбы, расплодились «унтеры Пришибеевы», самоуверенные и совершенно безграмотные, далёкие от занимаемых ими руководящих постов. Наружу выходила истинная сущность человека, ранее глубоко скрываемая под демагогическими пустопорожними лозунгами советской системы. Под эзоповской формулировкой о лояльности замаскировали обычное лизоблюдство и даже требования выплатить давно просроченную заработанную плату. Это всё было не для Вячеслава Тимофеевича. Он не походил на тех, кто с вожделением дожидается пенсии, чтобы припасть к дивану и пялиться в «глупый ящик для идиота», по выражению Владимира Высоцкого. После ухода из пароходства он ещё несколько лет работал на крупных судах частных компаний, но надолго в них не задержался.
На его долю выпало много чрезвычайных, кажущихся невероятными случаев, зачастую сравнимых с хождением по лезвию ножа, которых с избытком бы хватило на десяток обычных, приземлённых сограждан, во многие из которых верится с трудом, если бы не живой свидетель. Стоит лишь напомнить об одном из таких эпизодов, едва не закончившемся трагическим исходом для судна и экипажа. В 1970-х годах прошлого века практиковались перевозки большого каботажа из приморской Рудной Пристани на порты Чёрного моря с грузом свинцово-цинкового концентрата, подверженного разжижению в условиях различных климатических зон. И каждый раз это было связано с большими рисками для экипажей и судов. Об этих перевозках и их вопиющей экономической неэффективности уже упоминалось в других рассказах автора.
Вячеслав работал на твиндечном судне типа «Коммунист» польской постройки из большой серии в двадцати судов, лишь одно из которых находилось в составе Дальневосточного пароходства, остальные девятнадцать – в составе Черноморского. Единственной причиной такого разнобоя являлось имя на борту – «Хо Ши Мин», или, как его именовали, «дядюшка Хо», по сути дела, вьетнамский Мао Дзе Дун, только масштабом помельче, проживший более двадцати лет во Франции, а затем вернувшийся руководить страной, словно спустившийся с небес мессия. На фотографиях его всегда изображали добрым засушенным старичком со скудной бородёнкой, как у тибетских монахов, и сморщенным личиком. На самом деле людоед был ещё тот, и на его совести немало загубленных душ граждан своей страны. Наверное, это и была единственная, но какая причина оставить судно в ДВ пароходстве: можно сказать, cосед, к тому же строящий социализм. В то время вьетнамцам было не под силу построить приличное судно собственными силами, в отличие от настоящего, когда они их как пирожки пекут, семимильными шагами развивая судостроение и портовую инфраструктуру. Пароход был сложный в обслуживании: твиндекер со множеством лёгких стрел над каждым трюмом, механическими закрытиями твиндеков и трюмов. Словом, для боцмана худшего и не придумаешь. Приняв на борт семь тысяч тонн свинцово-цинкового концентрата продукции Дальнегорского комбината на рейде Рудной пристани, с барж снялись в рейс вокруг Африки на Чёрное море, ибо Суэцкий канал был закрыт из-за очередной арабо-израильской войны, которая нет-нет да вспыхивает после того, как арабы залечат раны и избавятся от испуга. Часть груза погрузили в твиндеки для уменьшения остойчивости, хотя, по правде сказать, толку от этого не было никакого по всем критериям погрузки опасного груза, но в итоге получилось совсем по-другому. Погрузка части груза на твиндечные крышки уменьшала чрезмерную остойчивость чисто символически на пару десятков сантиметров, что при метацентрической высоте более трёх метров совсем ничтожно, но зато увеличивала вероятность её подвижки из-за большей амплитуды качки. К тому же закрытые твиндеки не позволяли высушивать груз в трюмах во время перехода при ясной солнечной погоде, ибо открыть их было невозможно. На первых этапах перехода концентрат вёл себя вполне прилично, не вызывая озабоченности: регулярно в дневное время открывались люковые крышки для проветривания груза и лючки естественной вентиляции. Но при следовании в Индийском океане в условиях обычного муссона и высоких температур груз стал понемногу оттаивать, и мутноватая жидкость выступала поверх его поверхности, хотя судно вело себя пристойно, не предвещая накапливающейся опасности, не считая резкой стремительной качки. По сути дела, не что иное, как затишье перед бурей. Но это всего лишь первые признаки надвигающейся беды, и меры нужно было предпринимать немедленные и эффективные по удалению образовывавшейся пульпы, грозящей смещением опасного груза. Ситуация наблюдалась лишь в твиндеках, в которых количество груза было гораздо меньшим, чем в трюмах. В них-то и таилась главная опасность, ибо удаление пульпы с поверхности груза в трюмах было значительно сложнее из-за невозможности открытия твиндечных перекрытий. Боцман, как никто другой, понимал всю серьёзность пока ещё неосязаемого бедствия: во главе своей команды не переставая вычерпывал собиравшуюся жижу, скапливающуюся в неровностях концентрата, выливая за борт. Справедливости ради, в этом состязании с объединившимися силами природы и свойствами коварного груза участвовал весь экипаж – общая беда грозила всем, и развязка могла быть одинаковой для всех мореходов, невзирая на ранги. Борьба продолжалась с переменным успехом, пока уже недалеко от Маврикия не попали в сильный шторм. Вот тут-то и сказалась многодневная работа по вычерпыванию бездонных колодцев, выкопанных в твиндечном грузе, которой без устали занимался Вячеслав, всячески принуждая свою команду. Казалось бы, как можно обычными вёдрами вычерпывать бездонные трюмы, на поверхности тёмных барханов, ведь это почти не что иное, как попытка осушения самого моря. Но недаром поговорка гласит: «Капля камень точит». Нужно было скрепя зубы день за днём черпать и черпать отвратительную жижу, вдыхая совсем не ароматичные и безвредные пары. Вскоре пароход получил постоянный крен на правый борт около двадцати градусов и остался в таком положении, что говорило о смещении груза. А океан не унимался и продолжал испытывать уже по-настоящему аварийный пароход, держащийся наплаву лишь на честном слове и энтузиазме рабочего конвейера, экипаж прекрасно понимал, что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Груз разжижился лишь в нескольких трюмах, в твиндеках на удивление и счастье он продолжал удерживаться в начальном положении. Не подлежит сомнению: лишь благодаря казавшемуся бесполезным Сизифому труду всего экипажа на протяжении многих бессонных дней и ночей, концентрат сместился не во всех трюмах, и оказавшись нетронутым в твиндеках, что спасло судно от катастрофы, а его обитателей от гибели в пучине Индийского океана. По мере высыхания твиндечного груза с открытыми крышками трюмов, когда позволяла погода, произошло своего рода «окукливание», обволакивание концентрата твёрдой корочкой, и она сдерживала движение всей массы, также сыгравшее на руку терпящим бедствие. Так что «нет худа без добра»: постоянное проветривание на протяжении рейса и круглосуточное вычерпывание скапливающейся тёмной жижи дали свои результаты, и только на этом держалась жизнь судна и борющихся за своё спасение людей. Возглавлял эту, казавшуюся бесполезной борьбу Вячеслав, подбадривая уставших и своим примером воодушевлявший на этот, казавшийся сизифовым труд, когда руки и ноги отказываются подчиняться и охватывает апатия и безразличное состояние к будущему, вызванные крайней усталостью. Таковое состояние неустойчивости, балансирования между жизнью и смертью продолжалось более недели и в итоге дало свои результаты, да и погода чуть-чуть улучшилась. Судно зашло в Порт-Луи, столицу и основной порт островного государства Маврикий, где и произвели массовую штивку сместившегося груза и вернули пароход в прежнее состояние. По сути дела, спасательная операция закончилась полным успехом, а её организатором и вдохновителем был Вячеслав Тимофеевич Женихайлов. Его неуёмная энергия, терпение и выносливость служили примером для всей команды. В борьбе с разжижением опасного груза участвовал весь экипаж и каждый, валясь от усталости, продолжал вкалывать, лишь ненадолго отвлекаясь для короткого сна и еды, а впереди маячила отнюдь не богатырская спина боцмана. Но этот случай с коварным грузом был уже не первым в его послужном списке, и он хорошо понимал надвигающуюся опасность и грозящую развязку с печальным концом. В самом начале трудовой деятельности судьба едва не поставила крест на дальнейших устремлениях, но обошлось. Зимой 1964 года морское сообщество потрясла гибель рудовоза «Умань» Черноморского пароходства со всем экипажем в Кадисском заливе, случившаяся в ночь с 12 на 13 января с грузом железорудного концентрата из-за образовавшейся пульпы в результате разжижения при попадании в более тёплую среду. Кстати, второй, он же грузовой помощник капитана, отказался идти в рейс, настаивая на немореходности парохода вследствие переувлажнённого груза, за что был по-быстрому уволен из пароходства, заклеймён позором и нехорошими словами со многими стандартными штампами саботажника и едва ли не классового врага и пособника мирового империализма. Слишком высокой оказалась цена его поздней реабилитации. Вот и не верь после этого в роковое тринадцатое число, с началом которого глубокой ночью начал нарастать крен, и в течение часа судно опрокинулось и затонуло на глубине более шестисот метров. Усугубляло трагизм случившегося наличие у «Умани» соответствующей квалификации: она была специализированным углерудовозом, а что же говорить об обычном твиндекере для перевозки генеральных грузов, ему с грузом своенравного концентрата ловить в зимнем Бискайе было нечего. Вячеслав, будучи совсем молодым, тогда работал на старом тихоходном поляке, пароходе «Магадан» из серии «Донбассов» пятитысячной грузоподъёмности, сжигавшим на ходу от сорока до пятидесяти пяти тонн угля в сутки в зависимости от его качества. Работы на вечно чумазым от угольной сажи и не сгоревших частичек угля пароходе всегда хватало. В буквальном смысле «чёрного кобеля не отмоешь до бела». Впрочем, тогда «ковчег» ещё не был старым, да и «Умани» было всего-то пять лет от роду и ссылки на изношенность пароходов не проходят. Погрузка концентрата совсем ещё юного «Донбасса» происходила в Новороссийском порту, а догрузка в Туапсе, с причала которого отправилась в свой последний рейс «Умань». После окончания погрузки наверху образовались настоящие барханы, и капитан Подшивалов потребовал произвести штивку во всех трюмах, чтобы разравнять руду по всей поверхности трюмов, убрав возвышающиеся холмы и возвышенности. Но разбалованные грузчики наотрез отказались выполнять требование капитана, и тогда он принял решение не отходить от причала. Скандал разразился нешуточный, и дело дошло до самых верхов. После двух суток неразберихи штивку всё-таки произвели, и пароход снялся в рейс. Эти двое суток и оказались решающими, определившими судьбу судна и экипажа, поставившими барьер между жизнью и смертью. Сразу же после прохода черноморских проливов на поверхности руды стали появляться озерца воды, вызывая нарастающее чувство тревоги, свидетельствовавшие о начале разжижения груза, и являлись грозным предупреждением в преддверии вероятной катастрофы. Но вопрос о возвращении парохода для приведения в мореходное состояние не стоял: руководство никогда бы на такой шаг не пошло бы. И тут-то произошло опрокидывание теплохода «Умань» с таким же грузом в Кадисском заливе совсем недалеко от выхода из Гибралтарского пролива из-за разжижения железорудного концентрата, экипаж полностью погиб вместе с судном, секундный «оверкиль» в штормовом море не оставляет ни малейшей надежды на спасение. Это и стало причиной возвращения «Донбасса» в порт погрузки для расследования условий погрузки и состояния груза, в противном случае не миновать бы «Магадану» повторения незавидной участи «Умани». Отношение к капитану изменилось на противоположное, хотя всего лишь несколько дней тому назад его обвиняли во всех смертных грехах, едва ли не в преступлении перед государством, бойкотировании выхода в море и затягивании погрузки. В чём-чём, а клепать дела на невиновного соотечественника наследники Вышинского были мастаки и делали это с превеликим удовольствием по одному звонку из райкома или вышестоящей конторы, порядки во многом ещё не сильно отличались от недавних ужасов сталинского гулаговского беспредела, и правосудие существовало лишь на словах и бумаге. В любом случае ничего хорошего капитану не светило, не сносить бы ему головы. Снова приходится сталкиваться с невероятной ценой оправдания ни в чём не повинного человека, с чувством долга выполняющего свои обязанности, заклеймённого сложившейся системой. Судьба приоткрыла Вячеславу оборотную сторону такого притягательного со стороны мореплавания, её смертельную опасность и непредсказуемость, будто настаивая ещё раз подумать о верности выбранной профессии, но в итоге ничего не изменила. Он остался в своей уверенности, поколебать которую ничто не могло. Кстати, Вячеслав немало проработал на «Магадане», включая переоборудование парохода под жидкое топливо во время китайского ремонта с сентября 1963 до сентября 1964 года. Продолжительные ремонты по году и более, случалось и по три года, в Китае были обычным делом, ибо никакой механизации не было, все работы выполнялись вручную сотнями и тысячами китайцев. Точное их количество никто не знал не только на судне, но и среди руководства судоверфи, нередки были трагические случаи, на которых начальство не зацикливалось, иногда отделываясь просьбами не беспокоиться, ибо в Китае много китайцев.
Автору этих строк пришлось работать с героем нашего рассказа на двух судах, и единственным упрёком со стороны капитана в адрес боцмана являлось частое напоминание о превышении рабочего времени, на которое он, похоже, не обращал внимание. Работу на судне всегда можно найти, но всю её переделать невозможно, как и закончить ремонт по Жванецкому, но к этому боцман постоянно стремился, говоря словами Козьмы Пруткова, пытался «объять необъятное». Притом что сам был мастером на все руки и ему всё удавалось, а с учётом необычайного трудолюбия и вовсе не существовало непреодолимых преград. Авторитет его был настолько высок, что из команды никто не возражал против постоянных переработок. Его грудь не украшали ордена и медали, характер не тот, чтобы попасть в милость к кадровикам, но он не очень-то и сожалел об этом, прекрасно понимая бренность жизни и цену этих отличий, будучи знаком со многими их обладателями.
Чего только стоила работа на теплоходе «Механик Курако» под Кипрским флагом в течение десяти месяцев в контейнерном варианте между Гонконгом и двумя портами Тайваня, когда количество портов заходов превысило сто сорок с очень короткими переходами и стоянками у контейнерных терминалов, не превышающими нескольких часов.