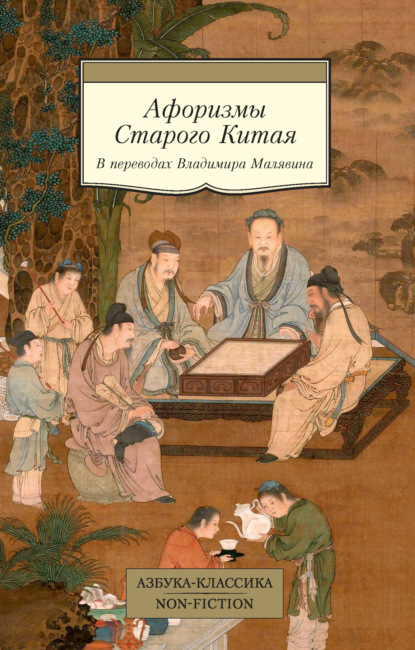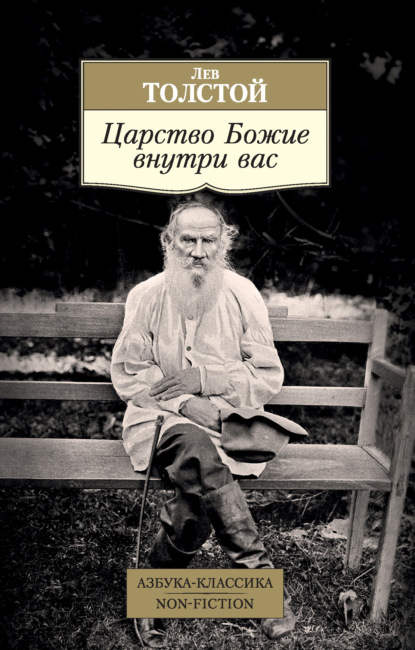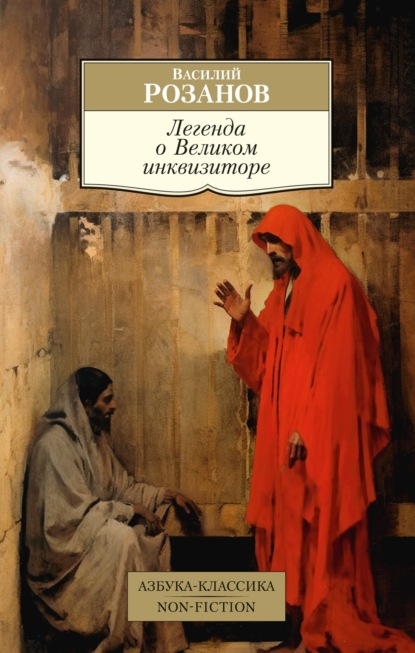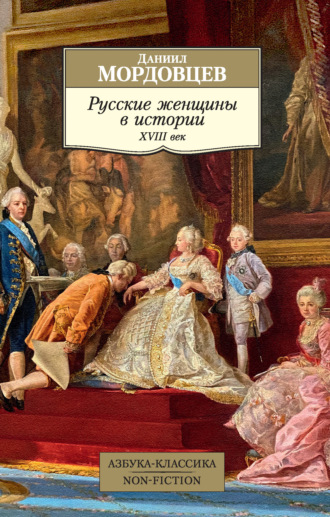
Полная версия
Русские женщины в истории. XVIII век
15-го же ноября на стенах домов в Петербурге прибита была следующая публикация:
«1724 года, ноября в 15 день, по указу его величества императора и самодержца всероссийского, объявляется во всенародное ведение: завтра, то есть 16 числа сего ноября, в 10 часу пред полуднем, будет на Троицкой площади экзекуция бывшему камергеру Виллиму Монсу да сестре его Балкше, подьячему Егору Столетову, камер-лакею Ивану Балакиреву (знаменитому шуту Балакиреву!) – за их плутовство такое: что Монс, и сестра его, и Егор Столетов, будучи при дворе его величества, вступали в дела противные указам его величества не по своему чину, и укрывали винных плутов от обличения вин их, и брали за то великие взятки, и Балакирев в том Монсу и прочим служил».
16 ноября Монсу отрублена была голова.
Тут же, у трупа брата, Матрене Балк читано было:
«Матрена Балк! Понеже ты вступила в дела, которые делала чрез брата своего Виллима Монса при дворе его императорского величества, непристойные ему, и за то брала великие взятки, и за оные твои вины указал его императорское величество бить тебя кнутом и сослать в Тобольск на вечное житье».
Экзекуция кончилась.
Тут же, на особых столбах, прибиты были росписи взяткам: имена тех, кто брал, и тех – кто давал.
Все это дело Монса и его сестры – странное и таинственное дело.
Один из новейших историков России так говорит об этом деле:
«В ноябре 1724 года государь Петр I испытал в недрах собственного семейства глубокое огорчение; оно не могло остаться безнаказанным. Довереннейшими и приближеннейшими особами его супруги были: первый ее камергер Монс и его сестра, вдова генерала Балк. Монс приобрел такое значение и такую благосклонность у Екатерины, что всякий, кто только обращался к нему с подарками, мог быть уверенным в исходатайствовании ему милости у императрицы. Петр сведал наконец о взяточничестве Монса. Монс и его фамилия были арестованы, преданы суду, обвинены в лихоимстве. Впрочем, – заключает этот историк, – из донесения австрийского посла, графа Рабутина, очевидно, что это обвинение служило лишь предлогом к казни Монса и его слишком услужливой сестры: преступления их были гораздо гнуснее…»
Другие же, менее достоверные повествователи этого события, рассказывают дело с подробностями не совсем вероятными, хотя и построенными на исторической основе, на фактах, которых отрицать нельзя.
Говорят, что Монса погубила собственная красота его и злоупотребление ею, а сестру его – неуместная услужливость.
Гельбиг повествует, что когда Монс заслужил особенное внимание Екатерины Алексеевны и стал им охотно пользоваться, то, «чтоб удержать взаимную склонность в границах приличия, необходимо было дать этому любимцу какое-нибудь место при дворе и таким образом вести интригу, не возбуждая ни в ком подозрения. Екатерина повела дело искусно: Монс произведен был в камер-юнкеры, а потом в камергеры ее двора. Петр ничего не подозревал; раз только царевна Елизавета, тогда еще болтливый и резвый ребенок, рассказала, что маменька очень смутилась, когда она приходом своим прервала беседу ее с Монсом. Отец не обратил внимания на детскую болтовню, и дело на ту пору обошлось без последствий. Несколько времени спустя Петр получил донос более определенный; тогда он дал генеральше Балк щекотливое поручение подсматривать за братом. 8 ноября 1724 года государю вздумалось съездить в Шлиссельбург. По доносу П. И. Ягужинского ревнивый Петр несколько часов спустя вернулся в город и, никем не замеченный, пробрался во дворец (ныне Екатерининский институт), где и застал супругу беседующей с Монсом, тут же была его сестра, Балк».
После ужасной сцены – по словам того же Гельбига – Петр ужинал, по обыкновению, во дворце, а на другой день Монс был арестован; вслед за Монсом посадили в крепость Матрену Балк, секретаря императрицы и одного камер-лакея. Петр в течение нескольких дней сам снимал допросы с виновного. Деятельным пособником при розыске был Ушаков. Рассказывают, что при этом монарх пришел однажды в такой гнев, что хотел собственноручно покарать красавца-камергера, но Никита Иванович Репнин, случившийся при этом, удержал разгневанного властелина. Следствие и суд произведены были с необыкновенной скоростью. 10 ноября обвиненного привезли в Зимний дворец, где собрался Верховный суд. Рассказывают, что здесь несчастного схватил паралич. 16 ноября Монс был выведен из крепости под прикрытием большого конвоя. Он простился с дворовыми людьми своими, которые проливали слезы, обнимая в последний раз своего господина. Близ Сената, на Петербургской стороне, на том самом месте, где несколько лет тому назад погиб на виселице князь Гагарин, прочитан был Монсу смертный приговор. Официальным предлогом к его осуждению было обвинение в лихоимстве. Камергер выслушал приговор с необыкновенной твердостью; снял с себя нагольный тулуп, шейный платок, положил голову на плаху, подарил сопровождавшему его пастору золотые часы с портретом государыни и просил у палача одной милости – отрубить голову скорее, с одного удара. Голова была отделена от туловища и взоткнута на шест, а тело долго еще лежало на месте казни. В тот же день мимо рокового помоста проехал государь в санях со своей супругой и указал трепещущей Екатерине на голову некогда дорогого ей камергера.
Не смея заступиться за него во время следствия и суда, Екатерина, говорят, молила государя о пощаде Матрены Балк, сестры несчастного Монса. Разгневанный Петр ударом кулака разбил большое венецианское зеркало. «Видишь, – сказал он жене, – одного удара достаточно было, чтобы разбить эту драгоценность: одного слова будет довольно, чтоб обратить тебя в прах, из которого я тебя возвысил». Нежная супруга сия, повествует Голиков, с умилительным прискорбием взглянув на великого монарха, отвечала: «Вы разбили прекрасное украшение своего дворца – неужели вы думаете, что дворец станет от этого лучше?»
Говорят также, что отрубленную голову Монса государь приказал положить в спирт и поставить сначала ее в кабинет императрицы, а потом отдал на сохранение в академический музей вместе с хранившеюся уже там другой прекрасной отрубленной головой – девицы Гамильтон, о которой будет рассказано в своем месте.
Рассказывают при этом, что государь хотел наказать и Екатерину, но только Толстой и Остерман остановили разгневанного монарха: они представили ему, что если Екатерину постигнет бесславная смерть, то бесславие это падет и на дочерей государя, ни в чем не повинных великих княжон, и бедные девушки не найдут женихов. Прибавляют к этому, что Петр хотел будто бы лишить жизни и своих неповинных дочерей, но ходившая за ними француженка-гувернантка спасла своих воспитанниц, спрятавшись с ними в момент гнева государя под стол.
К числу бездоказательных добавлений к этим событиям принадлежит и то, будто бы Екатерина за смерть Монса заплатила Петру отравой, в чем ей помог Меншиков. Ясно, что это сказки, результат тогдашних догадок, перешептываний: всякий недознанный факт родит миф и легенду.
Что касается лично Матрены Балк, то легенда присовокупляет, что женщина эта молила царя о пощаде, напоминала ему о его первой, молодой любви к покойной сестре ее – и Петр будто бы обнял ее, поцеловал, но не простил. «Прощение не в моей власти», – сказал монарх; однако же смягчил жестокость публичной казни, повелев дать сестре Анны Монс вместо десяти ударов кнутом пять.
В основе своей и эти легенды имеют долю правды; но подробности – более чем сомнительны.
Через два месяца после этой катастрофы государь умирает: более чем вероятно, что глубокое огорчение, причиненное ему Монсами, свело в могилу этого великана русской земли раньше срока, положенного ему его железной, не знавшей устали натурой.
На престол вступает императрица Екатерина Первая.
Еще тело императора стояло во дворце, еще только возвещалось по улицам и площадям созданной им столицы о предстоящем церемониале его погребения, а Екатерина, говорит новейший исследователь этой эпохи на основании архивных документов, изрекла милостивое прощение бывшей своей довереннейшей подруге Матрене Балк и всем пострадавшим по ее делу.
Прощение изрекалось в такой форме: «Ради поминовения блаженныя и вечно достойныя памяти его императорского величества и для своего многолетняго здравия: Матрену Балкшу не ссылать в Сибирь, как было определено по делам вышняго суда, но вернуть из дороги и быть ей в Москве».
Ее воротили с дороги.
Москва, немецкая слобода, место родины, место детских игр с покойной сестрой Анной, место первого знакомства с великим царем, тоже покойником, – вот что нашла Матрена Балк вместо далекого и холодного Тобольска. Она была уже стара: не много лет оставалось ей прожить в довольстве и счастии, что едва ли совместимо со жгучими воспоминаниями о пережитой жизни, о прекрасной голове брата, взоткнутой на шест, о чахоточной сестре, съеденной этою самою жгучею жизнью.
Но у Матрены Балк были дети. Ее красавицу-дочь Наталью ожидала такая же страшная судьба, как страшно было все в то удивительное время. Но об этом в своем месте.
IV. Фрейлина Гамильтон (Фрейлина Марья Даниловна Гамильтон)
Между историческими женскими личностями, которые заслужили бессмертие или славною деятельностью, вписавшей имена их в список лучших людей человечества, или непосредственным отношением к лицам и событиям, достойным вечной исторической памяти, или же, наконец, превратностями своей судьбы, к сожалению, есть и такие, на долю которых выпало бессмертие иного рода – бессмертие как историческая кара за злые деяния, за роковые ошибки, за унижение человеческого имени. История не обходит ни Леонида, павшего при Фермопилах для спасения отечества, ни Герострата, безумно сжегшего храм Дианы, это чудо света; она дает бессмертие матери Гракхов; она же не может отнять бессмертие и у матери Нерона. Но утешительно, по крайней мере, то, что наше, русское, прошлое дает нам примеров бессмертия первого рода больше, чем последнего.
К несчастным личностям последнего рода между историческими русскими женщинами следует отнести девицу Гамильтон, помещицу Дарью Салтыкову, известную более под именем Салтычихи, и некоторых других.
Девица Гамильтон принадлежала к отрасли древнейших и именитейших родов шотландских и датских, переселившейся в Россию в царствование Грозного и породнившейся потом со знаменитой фамилией боярина Артамона Сергеевича Матвеева, которому Мария Гамильтон приходится внучкой.
Около 1713 года девица Гамильтон является фрейлиною супруги Петра I, императрицы Екатерины Алексеевны.
О детстве Марии Гамильтон ничего не известно: кто была ее мать; руководила ли детским развитием девочки нежная заботливость матери, или девочка лишена была этого руководства и несчастный ребенок брошен был на произвол слепого случая – об этом нет известий.
История застает эту знатную девушку уже при дворе фрейлиной. Девушка пользуется расположением и царя, и его супруги до самого года своей роковой кончины, последовавшей в 1719 году. Есть гадательные свидетельства о том, что девица Гамильтон была будто бы очень близка к великому преобразователю России и как фрейлина, отличенная особым вниманием государя, пользовалась немалым значением при дворе, жила в роскоши, имела нечто вроде своего штата из девушек, из камер-фрау, ей прислуживавших, и вообще окружена была почетом и всеобщим вниманием.
Есть известия, что Гамильтон отличалась замечательной красотой: когда впоследствии голова Гамильтон была отрублена на плахе, то эту прекрасную голову, уже мертвую, великий царь целовал перед всем народом. Но об этом после.
Как первая при дворе красавица, соперницами которой могли быть разве только княгиня Марья Юрьевна Черкасская, две Головкины, Измайлова и генеральша Чернышова, которую Петр называл «Авдотья бой-баба», – фрейлина Гамильтон блистала на придворных ассамблеях, привлекала толпы поклонников, в числе которых, после самого царя, сердце ее отметило одного счастливца – с ним она не разлучалась до своей страшной смерти. Это был один из царских любимцев, «денщик» государя Иван Михайлович Орлов. Царские денщики в то время были то же, что в нынешнее время флигель-адъютанты.
Гамильтон тем более привязывалась к своему любимцу, чем более замечала охлаждение к себе императора, который, будто бы при своей до крайности подвижной натуре, легко менял свои временные привязанности, хотя такой взгляд на Петра, по нашему мнению, крайне ошибочен: более, чем кто-либо, Петр был постоянен в своих привязанностях.
Обстоятельства способствовали роковому сближению Гамильтон с Орловым. Когда в начале 1716 года государь и государыня отправились за границу, Гамильтон сопровождала их в качестве фрейлины двора императрицы, а Орлов не расставался с государем как один из расторопных молодых его денщиков.
Несчастная связь их скоро, однако, кончилась самой страшной развязкой для девушки.
Года через два в Петербурге обнаружилось, что последствием близких отношений девицы Гамильтон с Орловым была неоднократная беременность девушки. Обнаружилось также, что Гамильтон, желая скрыть свое несчастное положение от посторонних, а равно от царя и его и своего любимца, прибегала к преступным мерам – к детоубийству.
Преступления ее были обнаружены царем совершенно случайно, и притом так, что невольно причиной гибели своей и царской любимицы был тот, кого девушка любила, – сам Орлов. Однажды он, узнав о каком-то тайном сходбище и разведав о людях, составлявших это общество, подал царю обстоятельный донос на заговорщиков. Это было вечером. Государь, прочитав донос своего денщика, положил его в карман и занялся другими делами. Ложась спать, он обыкновенно приказывал денщикам класть свой сюртук или к себе под подушку, или на стул у кровати. Так делал и Орлов, раздевавший в этот вечер государя. Когда Петр заснул и дежурство Орлова кончилось, он отправился куда-то к своим приятелям и прогулял с ними всю ночь.
Государь, по обыкновению просыпавшийся очень рано, стал искать в кармане донос Орлова, чтоб вновь прочитать, и не нашел его там. Бумага пропала. Полагая, что донос украден, государь закипел гневом и приказал позвать Орлова, который один должен был знать, что сталось с доносом, потому что на ночь раздевал царя. Орлова не нашли. Гнев Петра дошел до крайних пределов, когда наконец гонцы отыскали загулявшего денщика и привели к государю. Не зная истинной причины царского гнева и полагая, что Петр узнал о его дружеской связи с камер-фрейлиной ее величества, «девкою Марьею Гаментовою», как тогда называли фрейлин, Орлов при виде гневного царя упал на колени.
– Виноват, государь! – взмолился Орлов. – Люблю Марьюшку! (Так звали при дворе эту красавицу-фрейлину и так называл ее сам царь: «девка Марьюшка», «девка Авдотья бой-баба» и другие фрейлины.)
Петр сразу понял, что бумагу не Орлов взял, и стал уже спрашивать его как виновного в близких отношениях к его бывшей фаворитке.
– Давно ли ты ее любишь? – спросил царь.
– Третий год.
– Бывала ли она беременна?
– Бывала.
– Значит, и рожала?
– Рожала, да мертвых.
Петр, как хороший следователь, не остановился на этом. Он нападал на след преступления.
– Видал ты их мертвых? – спросил он.
– Нет, не видал, а от нее сие знал, – отвечал трепетавший денщик.
Петр вспомнил, что незадолго до этого у дворцового фонтана в Летнем саду найден был мертвый ребенок, завернутый в салфетку, и матери ребенка не могли отыскать.
Царь тотчас же приказал привести к себе подозреваемую фрейлину. Гамильтон сначала клялась, что она невинна, но скоро потом уличена была свидетелями и разными другими обстоятельствами.
– Знал ли об этих убийствах Орлов? – спрашивает снова царь.
– Нет, Орлов не знал, – отвечала несчастная преступница.
Орлов был посажен в крепость, «а над фрейлиной, – говорит современник, – убийцею нераскаянною, государь повелел нарядить уголовный суд».
Злополучная бумага, бывшая причиной раскрытия преступлений, найдена была в сюртуке государя: карман в нем подпоролся и донос попал между сукном сюртука и подкладкой.
Суд по этому делу был неумолим. Рассказывают, что гнев Петра еще более старался увеличивать всесильный уже в то время князь Меншиков, который был сам неравнодушен к Гамильтон и, кроме того, боялся, что красавица эта могла вытеснить из сердца государя привязанность его к Екатерине Алексеевне, пользовавшейся покровительством Меншикова еще до того времени, когда царь обратил на нее внимание и приблизил к себе. Но и без этого государь находился в ту пору в страшном нравственном возбуждении: это были те самые дни, когда шел суд над царевичем Алексеем Петровичем, кончившийся смертью царевича и страшными казнями его соучастников.
21 июня 1718 года Гамильтон была допрошена в канцелярии тайных розыскных дел и повинилась во всем. Но следователи на этом не остановились: она была пытана в «застенке» и «с виски» (один род пытки) подтвердила свое признание. В присутствии государя, лично прибывшего в застенок, несчастную девушку вновь пытали – дали пять ударов кнутом: она ничего нового не сказала.
Похоронив царевича Алексея Петровича, царь отправляется на море и приказывает продолжать розыск по делу Гамильтон. Ее пытают «вдругоряд» и узнают то же, что знали и прежде, – ничего нового.
Замечательно, что во время всех этих страшных пыточных мук девушка ни одним словом не промолвилась, даже под невыносимыми пытками, о виновности того, кого она любила, тогда как Орлов малодушно, боясь пыток, лгал на нее, присылая из крепости, где он сидел, собственноручные письма и изветы в розыскную канцелярию, а потом каялся, что писал ложь будто бы в беспамятстве. «И притом, – пишет он в последнем письме, – прошу себе милостивого помилования, что я в первом письме написал лишнее: когда мне приказали написать и я со страху и в беспамятстве своем написал все лишнее… Клянусь живым Богом, что всего в письме не упомню, и ежели мне в этом не поверят, чтоб у иных спросить – того не было».
27 ноября 1718 года виновной фрейлине объявлен был смертный приговор:
«Великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич всея Великие и Малые и Белые России самодержец, будучи в канцелярии тайных розыскных дел, слушав вышеписанные дела и выписки, указал – по именному своему великого государя указу – девку Марью Гаментову, что она с Иваном Орловым жила блудно и была оттого беременна трижды и двух ребенков лекарствами из себя вытравила, а третьего удавила и отбросила, за такое ее душегубство… казнить смертью».
С подписанием приговора фрейлину заковали в железо.
Государь вместе со всем двором отправился к олонецким марциальным водам, а осужденная фрейлина томилась в заключении до возвращения царя.
Так прошло четыре месяца. Долгое заточение фрейлины, говорит современный нам составитель обстоятельного исследования об этой несчастной жертве распущенности нравов прошлого века, и тяжкие ее страдания возбудили наконец жалость у государыни, и она, умоляемая свойственниками и родными злосчастной фрейлины, решилась ходатайствовать о ее прощении. Она тем более надеялась на успех, что видела род нерешительности со стороны царя казнить бывшую ее фрейлину, так как со времени подписания смертного приговора прошло четыре месяца. Много и других приближенных к государю лиц присоединились к просьбе императрицы: она убедила заступиться за нее любимую невестку Петра, царицу Прасковью Федоровну, пользовавшуюся большим уважением государя. Царица не отказалась от попытки умилостивить Петра и с этой целью накануне казни пригласила к себе государя, государыню, графа Апраксина, Брюса и Толстого, подписавшего смертный приговор злополучной фрейлины. Трое названных вельмож уже приготовлены были к просьбе и со своей стороны обещали ее поддержать. В общем разговоре царица Прасковья искусно свела речь на Гамильтон, извиняла ее преступления человеческой слабостью, страстью и стыдом; превозносила добродетель в государе, сравнивала земного владыку с Царем Небесным, который долготерпелив и многомилостив. Апраксин, Брюс и Толстой, вслед за царицей, стали тоже просить за фрейлину, говоря в смысле слов Священного Писания о помиловании. Царь был в духе. Выслушав челобитье, он спросил невестку:
– Чей закон есть на таковые злодеяния?
– Вначале Божеский, а потом государев, – отвечала царица.
– Что же именно законы сии повелевают? Не то ли, что, «проливая кровь человеческую, да пролиется и его»?
Царица должна была согласиться, что за смерть – смерть.
– А когда так, – сказал Петр, – порассуди, невестушка: ежели тяжко мне и закон отца или деда моего нарушить, то коль тягчае Закон Божий уничтожить? Я не хочу быть ни Саулом, ни Ахавом, которые, нерассудной милостью Закон Божий преступя, погибли телом и душою… И если вы (он обратился к вельможам) имеете смелость, то возьмите на души свои сие дело и решите как хотите – я спорить не буду.
Все умолкли. Никто не решался ни брать на себя ответа, ни делать то, на что не было охоты у повелителя.
На следующее утро после того, 14 марта 1719 года, лишь только стало рассветать, на Троицкой площади близ Петропавловской крепости собралась толпа народа, давно привыкшего к казням. Солдаты цепью окружали эшафот. Там же, на позорном столбе и на колесах торчали головы, все еще не похороненные: это были головы тех, которые были казнены 8 декабря предшествовавшего года как соучастники по делу несчастного царевича Алексея Петровича.
Явился и государь на место казни. Из крепости вывели осужденную фрейлину вместе с ее горничной, знавшей о преступлении госпожи. Осужденная до последнего мгновения ждала помилования. Догадываясь, что сам государь будет при казни, она оделась в белое шелковое платье с черными лентами в надежде, что красота ее, хотя и поблекшая от пыток и заточения, произведет впечатление на монарха, напомнит ему те часы, когда и он ее любил и ласкал (если только это было)… Но несчастная ошиблась. Правда, государь был ласков, простился с ней, поцеловал ее и даже, говорят, дал ей слово, что к ней не прикоснется нечистая рука палача. Однако прибавил в заключение:
– Без нарушения Божественных и государственных законов не могу я спасти тебя от смерти… Итак, прими казнь и верь, что Бог простит тебя в грехах твоих, помолись только Ему с раскаянием и верой.
Она упала на колени и молилась. Государь что-то шепнул на ухо палачу. Присутствовавшие думали, что он изрек всемилостивейшее прощение – но ошиблись: царь отвернулся… Сверкнул топор – и голова скатилась на помост. Царь исполнил обещание: тело красавицы не было осквернено прикосновением руки палача.
Великий Петр поднял мертвую голову и почтил ее поцелуем.
Так как он считал себя сведущим в анатомии, то при этом случае долгом почел показать и объяснить присутствующим различные жилы на голове. Поцеловав ее в другой раз, бросил на землю, перекрестился и уехал с места казни.
Конфисковав в казну некоторые оставшиеся после казненной драгоценные вещи, великий Петр приказал конфисковать и сохранить самое драгоценное, что имела несчастная фрейлина, – ее красивую голову.
Голова Гамильтон была положена в спирт и отдана в Академию наук, где ее хранили в особой комнате с 1724 года, вместе с такой же красивой головой камергера Монса, брата знаменитой и самой первой любимицы Петра, Анны Монс, первого красавца всего тогдашнего Петербурга, любимца императрицы Екатерины I, казненного, как говорилось выше, по повелению царя. Голова Монса по приказанию царя долго стояла в кабинете царицы для ее назидания, а потом сдана в Академию, где была уже в спирту и голова Гамильтон. Воля монарха исполнялась с величайшей точностью. За головами был большой уход до смерти Петра и до восшествия на престол Екатерины I. Когда же увидели, что императрица забыла о бывшем любимце своем, отрубленную голову которого после казни в течение нескольких дней видела перед собой в кабинете, то и смотрители Академии забыли об этих головах.
Спустя шестьдесят лет об них вспомнили…
Это было в 1780-х годах. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова, в качестве президента Академии, пересматривала счеты этого заведения и нашла, что чрезвычайно много выходит спирту. Между прочим она заметила, что спирт отпускается на две головы, хранимые в подвале, в особом сундуке, ключ от которого вверен особому сторожу; но он сам не знал, чьи головы находятся под его охраной.
Долго рылись в архиве. Наконец нашли владельцев голов: это были – двора императрицы Екатерины I фрейлина Марья Даниловна Гамильтон и камергер Виллим Иванович Монс. Княгиня Дашкова донесла о находке императрице Екатерине II. Головы принесли во дворец, рассматривали, и все удивлялись сохранившимся следам их прежней красоты. Когда любопытство было удовлетворено, головы по приказу императрицы закопали в погребу.
Достойно внимания, что злополучная фрейлина Гамильтон почти до нашего времени жила в преданиях Академического музея («кунсткамеры»).
Как о всех почти исторических героях, о Гамильтон составилась народная легенда.