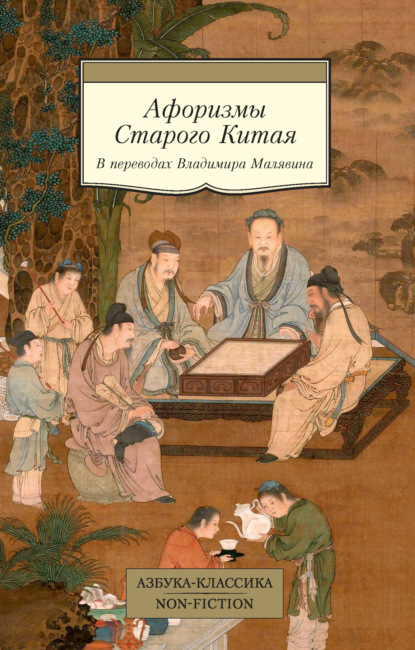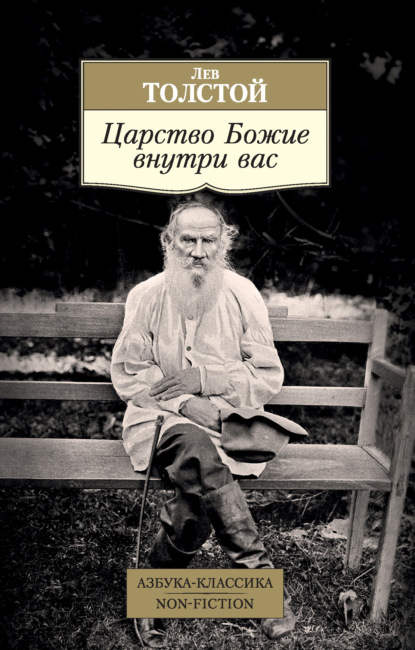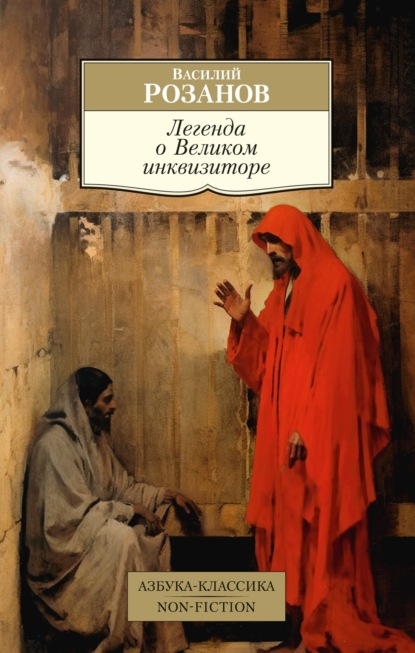Полная версия
Русские женщины в истории. XVIII век
Но девушка, несмотря на смерть своего прежнего возлюбленного, несмотря на царскую опалу, имела человека, который тоже любил ее, – это прусский посланник барон фон Кейзерлинг. Видно, слишком много было очарования в этой молодой женщине и, без сомнения, было немало и нравственных достоинств, если так велико оказывалось ее обаяние даже тогда, когда всем известны были ее прежние отношения к царю, и ее тайная любовь к покойному Кенигсеку, и, наконец, упавший на нее позор царской «сиверки».
В 1706 году Головин доносил царю, что посланник фон Кейзерлинг челом бьет, «чтоб Анне Монсовой и сестре ее Балкше (Матрене, бывшей уже замужем за Балком) дано было позволение ездить в кирху, и Балкову жену, буде можно, отпустить к мужу: сие просит он для того, чтобы все причитают несчастие их ему, посланнику», то есть любви и дружбе его к Анне Монс.
– О Монше и сестре ее Балкше, – отвечал царь, – велел я писать Шафирову, чтоб дать ей позволение в кирху ездить, и то извольте исполнить.
Анна Монс и сестра ее Матрена Балк были наконец освобождены.
Но в казематах еще сидели прикосновенные к «делу Монцовой».
– С тридцать человек сидят у меня колодников по делу Монцовой: что мне об них укажешь? – спрашивал в 1707 году князь-кесарь Ромодановский царя.
– Которые сидят у вас по делу Монцовой колодники, и тем решение учинить с общего совету с бояры по их винам смотря, чего они будут достойны, – отвечал Петр.
Но прежними милостями царя девушка не могла уже пользоваться. «Монсы, – писал Гюйссен, – живут свободно, но уже не могут рассчитывать и не имеют на то права, чтоб оказанные им сначала милости остались при них на вечные времена».
Да царю уже было теперь не до «Аннушки»: с 1705 года его посетила уже едва ли не последняя и самая глубокая привязанность, какую только мог иметь этот далеко не столь непостоянный в своих отношениях к женщинам царь-работник, каким его изображают новейшие его порицатели: Петр любил уже впоследствии знаменитую молодую пленницу Марту Скавронскую, или, как потом он называл ее, «Катерину Василефъскую», сделавшуюся потом императрицей-государыней Екатериной Алексеевной Первой. Может быть также, что в этой привязанности он искал забвения той, которая ему изменила и в которой он так глубоко обманулся.
Анна Монс, с своей стороны, считалась уже в это время невестой прусского посланника Кейзерлинга, хотя и это обстоятельство, по-видимому, оставалось тайной для царя, который едва ли мог окончательно вытеснить из сердца свою первую серьезную привязанность к той, которую он действительно любил и которой верил более десяти лет: в самом деле, трудно обвинить в непостоянстве человека, который любил одну женщину десять лет, имея притом столько соблазнов полюбить любую красавицу своего двора, всего своего государства и любую женщину во всей пространной Европе, которую Петр исколесил и как царь, и как простой корабельный плотник.
Этого-то постоянства и честного чувства к женщине и боялся молодой фаворит царя, знаменитый «Алексашка», впоследствии светлейший князь Александр Данилович Меншиков, который строил все свое благополучие на той вероятной мысли, что царь так же глубоко может привязаться и к находившейся у Меншикова пленнице Марте Скавронской, как глубоко был он привязан к «Монше», или к его любимой «Аннушке Монцовой».
Понятно, почему в 1707 году Кейзерлинг крупно поссорился с Меншиковым из-за своей невесты, о которой он хлопотал у царя, а «Данилыч» ему препятствовал в этом, стараясь поддержать гнев царя к своей прежней любовнице. Понятно также, почему один из современников этого события, Нейбауер, писал в виде угрозы, что «о поступке царя с девицей Монс, с своей возлюбленной, когда к ней несколько стал близок посланник Кейзерлинг, будет известно из ежедневных газет» – грозил, значит, гласностью.
Как бы то ни было, но царь, даже познакомившись с Мартой Скавронской, все еще не мог выгнать из своего упрямого сердца прежнюю привязанность – свою Аннушку, между тем как Аннушка так же упрямо и еще упрямее после своего заточения продолжала быть холодна к царю.
«Меншиков и Екатерина рисковали потерять все, – говорит Гельбиг, – если бы красавица уступила. Меншиков употреблял весь свой ум, чтоб воспрепятствовать намерениям Петра. Ему, вероятно, пришлось бы отступить пред пылкой страстью своего властителя, если б самая твердость девушки не помогла желаниям Меншикова и Екатерины. Если Екатерина при посредственной любезности сумела возвыситься до звания русской императрицы, то более чем вероятно, что прекрасная Монс с своими превосходными качествами гораздо бы скорее достигла этой великой цели. Но она предпочла судьбу и возлюбленного Кейзерлинга. И первая, и последний очень и очень превосходили происхождение и ожидание девушки, но все же были к ней ближе, чем престол и царь: она тайно обручилась с прусским посланником Кейзерлингом. Петр узнал об этом, когда только что собирался отправиться куда-то на бал; узнал из перехваченного письма, в котором Анна жаловалась на неотвязчивость монарха. Это несчастное открытие превратило любовь его в гнев. Государь отправился на бал, встретил красавицу и представил ей чувствительное доказательство своего неудовольствия. Больно видеть, – продолжает Гельбиг, – что этот великий человек, которому охотно простят какую-нибудь опрометчивость, имел низость потребовать подаренный дом обратно. Чтобы не подвергнуть ее новым неприятностям, Кейзерлинг решился тотчас же на ней жениться, но в это самое время впал в жестокую болезнь, которая и свела его в могилу; впрочем, он, как честный человек, исполнил свое обещание: уже будучи на смертном одре, он обвенчался с прекрасной Монс, после чего вскоре и умер. Вдова его осталась в Москве, где скончался ее супруг. Она проводила свои дни вдали от двора, с достоинством, в тиши домашней жизни, и погруженная в воспоминания о своих последних несчастных обстоятельствах, и умерла там же».
Гельбиг несколько изукрасил свой рассказ вопреки истине. Анна Монс вышла замуж за Кейзерлинга 18 июня 1711 года, а Кейзерлинг скончался 11 декабря в Стольпе, по дороге в Берлин.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Ваша покорная служанка до гроба. 28 мая(нем. диалект.).
2
Моему армии главнокомандующему Петру Алексеевичу лично(нем. диалект.).
3
…до гроба. Года 1699-го 8 июня(нем. диалект.).
4
Остаюсь Вашей покорной служанкой до гроба(нем. диалект.).
5
Ваша покорная служанка до гроба. 25 июля(нем. диалект.).
6
Усердно стараюсь не утрудить моего милостивейшего господина и отца смиренной просьбой во имя Господа, Ваша нижайшая до гроба преданная служанка. 11 сентября(нем. диалект.).
7
Обхождения закона во имя справедливости(лат.).
8
Domicella – принятое в некоторых европейских странах почтительное название незамужней женщины, происходящее из Древнего Рима.
9
В расплату за неблагодарность(лат.).