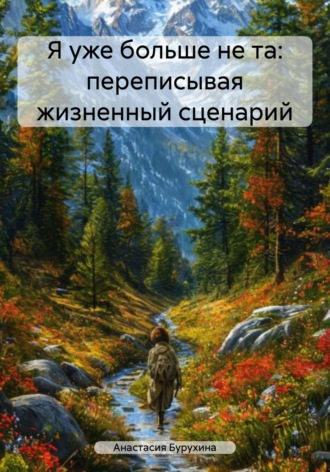
Полная версия
КУЛЬТУРНЫЙ КОД как переписать сценарий жизни?
А возможно, из себя выводила его совсем не я. Но я была застенчивой, необщительной и очень исполнительной девушкой, я переживала и принимала многое на свой счет. Я хотела учиться всему, что мне предлагалось освоить, старалась слушать как можно внимательнее своих учителей, но что-то в какой-то момент упустила, потому что попала, казалось, в невидимый ранг его снисходительного отношения. Поэтому выше четверки в семестре ни при какой своей старательности я не получала.
А вообще, ну какие каблуки!? Конечно, всем хотелось быть красивыми, и поэтому даже с баянами каблуки девушки носили. Но поверьте, тяжелее, чем баяны и аккордеоны, казалось, не было других музыкальных инструментов. Виолончель ставили между ног, контрабас тоже, а баян держали на коленях, так еще и раздвигали большие меха. Ногти я тоже не могла отрастить, у гитаристов они были всегда длиннее, чем у меня. Что касается юбок, то в них баянистке тоже особо не походить – или надевать длинную и широкую, или уж прятаться от глаз парней, так как ноги-то на ширине плеч держать надо при правильной посадке.
Мы часто играли в коридорах народного отдела, поэтому спрятаться было даже и некуда. По пять баянистов сидели в коридоре в разных углах. Какофония полнейшая! Себя еле слышно, но разыграться как-то надо было перед уроком, да или поучить репертуар. Было смешно на все это смотреть, еще в этом и участвовать. Но все ходили с серьезными лицами. Репертуар-то усложнялся и усложнялся, тут бы успеть с аппликатурой разобраться, а уже скоро готовое произведение подавай на зачет.
Мой напарник по баяну (да, мы еще и умудрялись делить баяны на двоих: позанимался пару-тройку часов – отдай инструмент другому) вообще уходил из отдела и играл в другом крыле на лестничной клетке у спортзала. Как время пришло, идешь к нему туда останавливать его переливы и забирать инструмент. Но это было недолго. Напарника повысили и выдали баян еще больше. А я осталась с тем, что был поменьше. И даже грустила. Нет, не из-за напарника, а из-за того, что хотелось тоже баян побольше. Баяны, о которых все мечтали, были пятирядные, концертные, со множеством функций и переключателей. Ох, что на них вытворяли те, кто смог их заполучить! На них музыка лилась максимально фактурно, объемно и так щемяще приятно, что эти, простые, были какими-то детскими игрушками.
Меня не повышали. Я никогда не «тянула лямку», поставила себе цель упорно и много заниматься, и, казалось, следовала ей. Не знаю, что там виделось со стороны, но я стабильно занималась по 4-6 часов в день, если получалось меньше, то внутренний критик меня глодал. Я приезжала в училище то к 7 утра, то даже 6:30, чтобы «забить» класс и играть не в коридоре, а в кабинете. Помимо занятий на баянах, нужно было отрабатывать программу на фортепиано, как на втором инструменте, поэтому хотя бы полтора-два часа нужно было выделить и на это. Я балдела от фортепиано, особенно от Шопена. А ведь еще была и домра! Но разучить партию для оркестра было не сложно, поэтому минут 30 хватало.
Уходила я из училища часов в восемь вечера, переделав все дела, сделав домашнюю по гармонии и прочим дисциплинам. Дома не было никакого уединения – 6 человек, которые тоже хотели заниматься каждый своими делами, и кот, который ненавидел мое музицирование и кричал в те моменты, когда я начинала издавать звуки музыки. Да и баян дома был совсем детский, он даже по солидности не подходил под уровень музыкального училища, не то, что по своим звуковым возможностям и характеристикам, которые были слабее, чем те, которые могли выдать там. Поэтому я свой баянчик оставляла дома для резерва, а в училище получила инструмент немного лучше и больше. Хотя все равно, он был самым простым и обычным по меркам «баянной статусности» инструментом.
На втором курсе стали ко мне подходить ребята-сокурсники или даже постарше, между делом интересуясь, не хочу ли я переводиться к другому преподавателю. Для меня такие мягкие расспросы были странны и непонятны, я не знала, что им отвечать и как к этому относиться. И они ведь знали, о чем речь, а я не понимала и верила, что все и так нормально. Я сдала экзамены в музыкальной школе, мама разговаривала с учителями по поводу поступления в училище, и педагог из музыкальной школы, у которого я училась последний год, сказал, что обо всем поговорит в училище и уладит вопросы с выбором педагога. Поэтому первого сентября я и пришла в новый дом музыки с пониманием, что «старшие» все уладили. Меня-то до решения подобных вопросов тогда вообще не допускали, мы совсем ничего не обсуждали с родителями по поводу правильности выбора и возможных вариантов. Казалось, выбора вообще не было, существовала лишь одна кем-то положенная стратегия, которой нам, детям, нужно было следовать беспрекословно.
Поэтому что я могла ответить сокурсникам на вопрос почему я учусь именно у того педагога, у которого училась? Потому что мне его посоветовали уважаемые мною и моей семьей люди. В этом, наверное, таилось мое доверие к миру и к родителям. Я доверяла им безоговорочно, даже покорно.
Мой же преподаватель порой пропускал назначенные уроки, переносил их на другие дни, сдвигал график. И, казалось, все, что я играла во время занятий, для него было простым развлечением и мимолетным делом – прийти, послушать, что сыграет в это раз его единственная ученица, сделать несколько поправок и снова куда-то исчезнуть.
Но однажды я шла по небольшому торговому центру рядом с одной из автобусных остановок моего маршрута, и, к своему великому удивлению, увидела там, за стеклом одного из небольших магазинчиков, своего преподавателя, который доставал какие-то коробки и перебирал что-то на витринах. Оказалось, что у него была там точка по продаже детской одежды. В тот момент у меня все встало на свои места – и его отсутствие, и пропуски занятий могли полностью обосновываться этим другим делом. Педагог-предприниматель, вот кем был мой учитель, на которого я, привыкшая безоговорочно доверять старшим, негласно возложила свои надежды получить достойного проводника в мир музыки.
В то время, как другие преподаватели могли часами консультировать своих подопечных, обучая их искусству игры, мой делал бизнес. Когда-то, возможно, он так же блестяще, как и многие другие баянисты, играл великолепные произведения баянной классики, но было понятно, что все это уже в прошлом, а преподавание в училище было всего лишь необходимой рабочей нагрузкой.
Я играла много, упорно, но не очень успешно, видимо. Мне кажется, мой преподаватель думал, что я справлюсь и так, а он получит свою ставку. Я же думала, что получу в его лице хорошего наставника и смогу поступить в консерваторию. Когда на итоговом государственном экзамене в конце четвертого курса мне поставили по баяну 3 с плюсом (а такого обычно не ставят, «плюс» – это же самая настоящая ирония!) то заведующий по учебной части вбежал ко мне и с удивлением дернул за руку: «Ты что, по всем предметам шла на красный!? И только баян!?»
А что я могла сказать? Да, так и было! Мне нравилось учиться, я любила музыку, историю музыки, просиживала часами в фонотеке, изучая и запоминая произведения, любила решать гармонические задачи (парни из отдела списывали у меня), тренировалась, чтобы развить абсолютный слух и даже по сольфеджио не было проблем сдать итоговый экзамен.
Я рыдала. Много. Моя мечта рухнула. Мои силы и старания не были оценены, я не смогла проявить то, на что тратила так много сил и времени. До сих пор не понимаю, что и в какой момент делала не так с этим баяном. При этом для квалификации преподавателя я очень хорошо освоила все, что требовалось для дальнейшей работы в качестве педагога музыкальной школы, или работы в музыкальных коллективах.
Был случай, что для педагогической практики мне привели девочку лет девяти, правда, «с припиской», что соображает она так себе, поэтому никто не знает, что я с ней буду делать. Но практика есть практика, поэтому нужно было идти обучать игре на баяне. И я пошла учить. Возились с ней, разбирали все, как положено, готовили репертуар к выступлению по практике. В результате комиссия поставила ей 4+. А главный по практике вбежал со словами: «Девочка заиграла, что ты с ней сделала?» Я гордилась результатами, гордилась девочкой, гордилась ее довольной улыбкой после зачета. Мы смогли.
Возможно, в какой-то момент той девочкой была я сама. Виновата ли она была в своем неумении? Был ли у нее до меня какой-то наставник, учитель? Кто поставил ее в ранг «не соображающих», в какой момент сделали эту отметину на ее способностях? Может быть, нужно было прислушаться к ней, найти подход, поверить в нее, наконец? А может быть из нее вышла бы прекрасная вокалистка или даже гимнастка, почему ей дали именно баян?
Мой баян тоже не случился со мной по собственному желанию. Как будто он спустился ко мне из других миров, чтобы я выполняла эту непонятную странную миссию, быть баянистом.
Знаете, наверное, способ накормить маленького ребенка во что бы то ни стало – дать ему выбор без выбора? «Ты будешь манную кашу или рыбный суп?» – с улыбкой спросят заботливые родители. Ребенок при этом всем, возможно, ни того ни другого не желал, и хорошо, если это сообразит, будет протестовать, пробовать отстаивать свое мнение. Но ведь бывает, что ощущение детской кармы нависает неизбежно, и, склонив голову пониже, надув губы, он все-таки выберет что-то из предложенного, пробормочет, что будет манную…
У меня была похожая, но немного другая «игра»: или сидишь грызешь семечки с другой уличной детворой, учишься материться и делать всякие детские пакости, или идешь в храм музыки общаться с умными людьми и расти до чего-то особенного, чтобы «выбиваться в люди», а на другое тебе просто не останется времени.
Я принимала с интересом все, что мне предлагала жизнь, беспрекословно доверяла авторитету родителей, их опыту и предлагаемому ими пути для меня. Я не сопротивлялась, не ругалась, не настаивала на своем в обучении. Я следовала своим предустановкам. Я была рада учиться, практиковаться в музыке, была рада общению со сверстниками, хотя не была «своею» среди них. Моя лесная «дикая» жизнь прививала мне совсем другие ценности и коды, до которых в городе просто не было дела. В городе дети, подростки приспосабливались жить по другим непростым правилам, я же на их фоне была наивной, доверчивой, и в дружбе, и в общении с противоположным полом, принимающей на веру многое из того, что нужно было бы научиться распознавать и отсекать даже из необходимости самосохранения. Это было оборотной стороной лесной жизни вдали от города и людей.
Глава 3. Уход от коллективных представлений. Услышать зов души
Для кого-то высшее образование – это обычный этап, который был намечен еще со школы, как само собой разумеющееся действие. Для нашей семьи я была в этом деле первопроходцем. Профессии моих родителей очень ценились в советское время: мама – перспективный токарь, перевыполнявшая планы на заводе настолько, что ее даже просили притормозить, папа – электромонтажник, и никто кроме него не плел мне перстней из цветных монтажных проводов. Но в 90-е все поменялось. И нужно было учиться выживать в новой реальности. Нас «кормили» козы, кролики, пчелы, картошка и лес с его безграничными дарами. А зарплату выдавали сапогами или не выдавали вообще.
Высшее образование выглядело как билет в прекрасный мир без боли, лишений, как путь к безбедному будущему. Это что – почти рай? Хм… получается, что так.
Наплакавшись от понимания того, что ни на какую консерваторию я не тяну, поняла, что если уж идти на высшее, то туда, куда зовет меня сердце, не взирая на то, кто и что вокруг говорит и советует.
Здесь как раз начинается отслоение собственного восприятия от коллективного. По старым законам линейного развития и родовым предустановкам уже нет желания жить, а формирование собственного культурного кода еще не случилось. Есть осознание, что нужно развиваться по самостоятельной ветке жизненной эволюции, но новые навыки и миропонимание находились в зачаточном уровне.
На баяне играть меня отвернуло. Была поставлена большая точка в этой 10-летней пытке инструментом. Я не брала его в руки больше ни разу. Обычно так делают подростки, которые закончили музыкальную школу. Я же стояла на профессиональном пути с дипломом преподавателя игры на инструменте и квалификациями дирижера и артиста ансамбля и оркестра. Меня звали работать в музыкальную школу преподавателем (кстати, периодически зовут и по сей день). А я чувствовала и внутреннее неудовлетворение от случившегося, и свой нераскрытый потенциал. Не знала, что делать, не знала, с кем посоветоваться, и не хотела соглашаться на то, что «дают».
Кстати, баяны «оставляли» не только такие, как я. Некоторые девушки отдела переучивались к четвертому курсу на другие инструменты «поженственней» да полегче, а парни, которые даже добились пятирядных концертных инструментов, тоже порой выбирали свой профессиональный путь без такого тяжелого музыкального «груза». А что, физические особенности человека тоже важны! Мой рост остановился на 152 сантиметрах, а весила я плюс-минус 50 килограммов. Даже кровь не всегда могла сдать в День донора – как весы лягут. Инструмент явно был не по мне. Вот один сокурсник по училищу метр восемьдесят ростом, закончил консерваторию, отслужил в ВДВ и отлично давал концерты на Рублевке с баяном. А другой баянист из нашего народного отдела, говорят, исполнял музыку к фильму "Есенин"с Сергеем Безруковым. Но это были лучшие ребята отдела.
Возможно, вы не осознаете, что есть явные видимые причины для изменения жизненного пути, внешние признаки и знаки. Но ваши предустановки настолько сильны, что вы не можете в один миг разорвать прежние оковы мышления.
Какие знаки были у меня?
1. Проваленная инициация на зрелость. Экзамен по исполнительству на баяне был самым неудачным из всех остальных. Не было бы его, получился бы красный диплом об окончании музыкального училища. Мои многолетние старания не принесли ощутимого результата.
2. Не подходящие физические данные. Мои физические особенности не располагали увеличивать нагрузку. У меня на тот момент уже развился сколиоз – одно плечо было выше другого от постоянной специфической посадки за баяном.
3. Отсутствие проводника. Рядом со мной было множество ребят с мудрыми проводниками, которые сопровождали их на выбранном пути. Их проводники были заинтересованы и погружены в процесс освоения культурного кода музыки вместе со своими учениками. Прогресс даже у слабых учащихся был выше, когда они шли в новую культуру в сопровождении проводников.
Говоря отстраненно, баян – очень хороший музыкальный инструмент с огромными мелодическими возможностями. Подобно ручному мини-органу он позволяет исполнять многоголосные сложные произведения, которые недоступны для других музыкальных инструментов. Но «великих» баянистов, которые продолжили свой профессиональный путь как исполнители, все-таки можно пересчитать по пальцам. Многим, даже самым талантливым музыкантам, нужно было пробиваться на свое место в консерваторию.
Вот спроси человека бизнеса сейчас, что для него музыканты, да и другие гуманитарии в целом, филологи, историки? Он ведь точно просчитает в мгновение всю возможную доходность подобной профессии, увидит явные тупиковые места в масштабировании умений и обрекут подобное образование на нерентабельное, лишь занятие для себя, для собственного развития. Златые горы тут не скуешь, не будучи талантливым музыкантом-самородком, чтоб и лицо свое профессиональное не потерять, и карьеру выдающуюся и денежную выстроить постепенно. Вот пианист Денис Мацуев, видится, как нельзя лучше может стать примером подобного синтеза "умных и успешных". Не он один, конечно, и тут могут начаться споры о приверженности призванию и подмене понятий. Но я лишь о том, что Правило итальянского экономиста Парето, или принцип 80/20 существует. Сделанные им наблюдения гласят, что в большинстве ситуаций 20% усилий дают 80% результата, а оставшиеся 80% усилий дают лишь 20% результата. Вдумайтесь в это исследование.
Упражнение. Проанализируйте свои действия и усилия в разных сферах жизни. Проследите, где вы тратите огромное количество усилий, а получаете результат, не соответствующий затраченным усилиям? Где же наоборот, выполняя лишь 20% важных задач или привычек, вы достигаете 80% результата и довольны проделанной работой.
Так как же нащупать не то, чтобы крик, но хотя бы шёпот своей души, если совсем не умеешь этого делать, если совсем не приучен слышать себя?
Видимо, только повторяющиеся разочарования, осечки и спотыкания могут навести на мысль, что проживать такое отчаянное состояние раз за разом вовсе не весело. А должной поддержки из вне не приходит, или приходит, но совсем уводит не в то русло, к которому лежит душа.
В музыкальном училище я все время училась на стипендию. Это были порой единственные собственные деньги, на которые можно было что-то себе позволить и распорядиться ими так, как считаешь нужным. Помню, как долго копила на кожаную куртку, а курсе на третьем купила себе приличный томик Дейла Карнеги и зачитывалась в моменты уединения. Так, через книги, психологию, я старалась наверстать непонятную и даже во многом незнакомую для меня тонкость человеческого общения и коммуникации. Психология меня захватывала, она позволяла лучше понимать людей, давала ответы на важные для меня жизненные вопросы и помогала наверстывать недостаток «социального» в моем лесном детстве.
Я решила поступать на психологический факультет. Записалась на подготовительные курсы, начала готовиться, штудировать дисциплины. История, обществознание – это было непросто, так как все школьные дисциплины в ИМУ остались на втором-третьем курсе, а старшие курсы училища были отданы под подготовку по специальным дисциплинам. Но я была настроена решительно.
Когда время экзаменов приближалось, к нам, как будто сочувственно, обратилась педагог, которая вела эти курсы, и сказала, что на психологический факультет нам не поступить, так как почти все места уже заняты «негласно». На социологию – тем более все распределено, разве что на социальную работу места останутся, но это совсем не то, что программа по психологии. «Умный же человек, наверное, дело говорит», – задумчиво размышляла я. И так искренне и сочувствующе выглядело все это, что мы с такими же, как я, жаждущими образования, включили режим нового поиска. Мне не хотелось заведомо провалиться на экзаменах, у меня не было средств, чтобы рассматривать платное обучение – об этом даже и речи не было в моей семье. Но я хотела учиться «по душе», не там, где придется, не там, куда попаду, а там, где мне действительно интересно, воодушевляюще, ценно – я иначе просто уже не могла.
Видимо, многолетнее исполнение предустановок образовательного пути, выбранных не мною (даже если из самых благих побуждений), выстраданные годы баянного сна, полные разочарования и приобретенного неверия в собственные возможности, поставили большую отметину на внутреннем восприятии происходящего со мной. И большую точку в желании распознавать баянный код.
Какие ощущения меня переполняли?
1. Я не могла и не желала выполнять чью-то волю без своего личного полного согласия.
2. Я не хотела плыть по течению, ждать, когда кто-то определит мой путь за меня.
3. Я не хотела следовать чьему-либо мнению не убедившись, что имею личные схожие настроения в вопросе.
4. Я готова была трудиться, чтобы освоить новое, мне незнакомое, но желанное. Я умела усердно трудиться.
5. Я старалась прислушиваться к своему внутреннему голосу, желанию, к своей душе.
Да! Мне потребовались долгие годы, чтобы начать распознавать, какое дело мне нравится самой, а какое – лишь проекция чужих желаний. Так много посвятив времени усердной учебе, я чувствовала, что должна идти за зовом своего сердца, лишь это могло подарить спокойствие и уверенность в том, что я сама выбираю и строю свою жизнь.
Я хотела изменить направление своей реки. Не плыть, куда заносит меня течение, а, наконец, сделать выбор самой, из сердца, из желания быть счастливой. Мне было 18 лет, и я созрела, наконец, до того, чтобы понимать – я имею право выбирать сама свое дальнейшее образование и путь.
Не могу сказать, что в моей голове тогда рождалось что-то дальновидное, какой-то строго выстроенный путь карьеры или жизни. Совсем нет. Я не думала ни о профессиональной реализации, не о создании семьи – эти мысли не трогали меня тогда. Никто не разговаривал со мной об этом. У меня не было проводника или наставника, кому я могла доверить свои мысли и устремления, чтобы внести ясность и получить совет по продвижению вперед. Я шла на ощупь, на внутренний зов интуиции.
Вдруг однажды, проходя мимо музыкального училища, в котором я еще доучивалась и сдавала государственные экзамены, увидела прекрасное яркой объявление, непохожее ни на какое другое. «Гуманитарный факультет ИГХТУ, специальность «Культурология», специализация «Менеджмент в сфере культуры». Я загорелась! Очень! Пришла и сказала родителям: «Всё! Я нашла, собираюсь туда!». Дни экзаменов на тот и другой факультет пересекались, и нужно было выбрать куда я иду. Я выбрала культурологию.
Глава 4. Первые попытки освоить культурные коды. О дивный новый мир!
«О чудо!
Какое множество прекрасных лиц!
Как род людской красив! И как хорош
Тот новый мир, где есть такие люди!
(Шекспир)
Когда ты желаешь стать полноправным жителем нового города, это совсем не означает, что этот город тебя ждет. Совсем не обязательно, что тебя там встретят с распростёртыми объятиями и радушием. Город, возможно, переполнен жителями до отказа, и чтобы стать полноправным членом нового общества, нужно будет приложить немало усилий по распознаванию и освоению нового культурного кода.
Культурология. Надо ли говорить, что многие в то время даже не слышали о существовании такой профессии. Но настолько интересно, глубоко и объемно звучала для меня тогда анонсированная программа, что я на 100% решила учиться там. Не для «корочек», не для статуса, а для личного углубленного развития и совершенствования.
Подав документы на поступление, я узнала, что на этой специальности очень высокий проходной балл по всем дисциплинами. В этот город ждали не всех. Его двери были закрыты для непосвященных и простых зевак. Кто-то из ребят, поступавших со мной, вел себя бодро и весело. Многие уже к тому времени были дружны друг с другом (видимо, вместе слушали подготовительный курс). Я же была незнакомкой для всех. Я наблюдала за всем, что происходило вокруг, хотела увидеть знаки, которые смогут объединить меня с другими желающими войти в ворота волшебной крепости. Я старалась собрать все свои знания во едино, чтобы сделать заветный шаг и приблизиться к заветной цели.
Историю я сдала с блеском. К удивлению комиссии, мой ответ лился как песня, и необходимый отличный балл был набран! Я была рада и воодушевлена, ведь была на полпути от выполнения предустановленной семейной программы по получения высшего образования. Уверена, родители гордились мной в тот момент. Мне же нужно было выдержать еще два испытания, чтобы пройти инициацию полностью и стать жителем нового города.
Но меня ждал провал. С английским языком была «засада». Того, что я знала, хватало только для чтения и перевода не очень сложно текста, но никак не для приятной дружеской беседы. Английский я завалила и вместе с ним свою возможность поступить на Культурологию в том году.
Конечно, я была огорчена, очень. Мое фиаско напоминало мне о том, что я тот самый зевака с улицы, которого не ждали в том городе. Я не могла тогда выразить свои ощущения именно так, но глубокое разочарование в своих способностях и знаниях захлестывало мой разум больше, чем оптимистичный настрой. Мне не за что было уцепиться, в том городе не было моих знакомых, ни среди знати (преподавателей), ни среди новичков (студентов). Среди моих друзей, родственников и соседей тоже не было никого, кто бы мог навести хотя бы какой-то мостик через оборонительный ров в красивый город знаний.
И запасных вариантов я себе не оставила, и так не хотелось пропускать год. Но дома меня поддержали тем, что надо постараться и выучить все до следующего года. Нашли преподавателя, который у себя на квартире обучал английскому предпринимателей, выезжавших за границу. Я год учила английский вместе с
На следующий год я снова пошла поступать на культурологию. О колоссальном прогрессе в английском мне в удивленном шоке сообщила педагог по английскому, когда я сдала экзамен на высший балл. Казалось бы, я сделала все, чтобы достигнуть желаемого. Но вдруг на экзамене по истории вытаскиваю 13 билет, и из 50 с лишним билетов, которые я знала почти на зубок, там были какие-то русско-турецкие войны, нужны были даты сражений, наступлений, конфликтов. Напрочь не любя какие-либо войны, я не смогла раскрыть эту тему так, чтобы снова повторить прошлогодний фурор. Баллы были неплохие, но меня снова не приняли. Тогда, отчаявшись в конец, я попросила родителей помочь оплатить первый семестр. Они не были счастливы от этого, но выдали нужную сумму со словами, что больше одного семестра оплачивать ничего не смогут. На бесплатное отделение ребят переводили, но нужно было не только ждать, когда освободится место, но и так постараться, чтобы все предметы шли на отлично!



