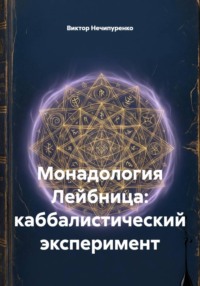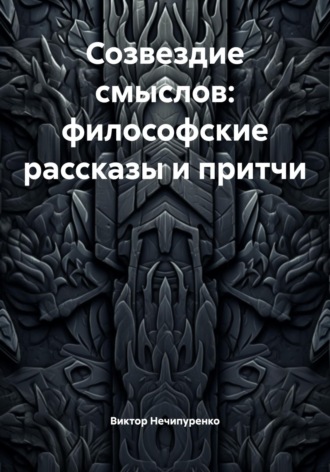
Полная версия
Созвездие смыслов: философские рассказы и притчи
В этих словах – ключ к пониманию и силы, и, возможно, трагедии Летова. Он не говорит языком рефлексии, анализа, взрослого поиска решений. Он говорит языком предельного, почти биологического отторжения действительности, языком инстинктивного вопля существа, загнанного в угол. Это реакция ребенка, который на невыносимую боль и страх отвечает не попыткой понять или договориться, а слепой яростью, хватаясь за «автомат» – будь то гитара, слово или сама поза тотального отрицания. Мамлеевский «Прыжок в гроб» перестает быть просто литературным образом, он становится метафорой жизненной стратегии – если не ухода из жизни физической, то ухода из мира взрослых смыслов, из попыток строить и «перестраивать», в мир чистого, незамутненного рефлексией протеста.
Но в этом отказе от взросления, в этой фиксации на детско-животной реакции на травму таится огромная опасность. Неизжитый инфантилизм, пусть даже спровоцированный чудовищными обстоятельствами, может оказаться ловушкой. Ребенок с автоматом опасен не только для других, но и для себя. Он не видит выхода, кроме как стрелять или прятаться. Он теряется в лабиринтах своего детства, своей боли, своего бунта, не находя пути к интеграции этого опыта, к его преодолению не через отрицание, а через трансформацию. И финал может оказаться закономерным: тот, кто так и не смог или не захотел вырасти из состояния «ребенка с автоматом», рискует остаться в этом состоянии навсегда, пока оно не поглотит его целиком. Возможно, именно в этом «потерянном детстве», в этом экзистенциальном тупике неизжитого инфантилизма и кроется одна из причин той преждевременной гибели, которая кажется почти запрограммированной в самой сути этого отчаянного, надрывного и такого по-детски беспощадного бунта.
Боря и липистричество
В славном городе Одессе маленький Боря с трепетом обходил электрические столбы. На каждом втором красовалось грозное «Не влезай, убьет!», а на некоторых – для особо непонятливых – череп с костями и молниями. Боря не то что лезть – дышать рядом боялся.
Гуляя как-то с бабушкой, Боря решил ее подразнить. Подошел к столбу и сделал вид, что сейчас ка-а-ак полезет! Бабушка аж подпрыгнула:
– Боря, шо ты делаешь?! Ты ж не совсем еще сумасшедший! Тебе шо, убиться захотелось?! Таки столб под липистричеством!
С тех пор Боря твердо знал: липистричество – штука смертельная, особенно для тех, кто лезет вверх, туда, где, как писал классик, «персики зрелее, чем внизу».
Прошли годы. И вот уже подросший Боря видит картину: какой-то дядька в спецовке спокойно лезет на тот самый столб, да еще и ковыряется там в проводах. Боря замер в недоумении.
– Так шо, – подумал он, – выходит, липистричество убивает не всех подряд? А только тех, кому нельзя? Или, может, на самом верху, таки да, персики слаще, но только для избранных? А кому можно, тому и липистричество нипочем? Ай-яй-яй…
Лестница для Ангелов, или кому доверить девицу
В стародавние времена, когда мудрость еще ценилась дороже звонкой монеты, а девицы красные были воистину красны не только румянцем, но и скромностью, встал перед одним почтенным Градоправителем вопрос нешуточный: кому доверить свою единственную дочь, Любаву-Лебедушку, для сопровождения на Великий Праздник Урожая? Путь предстоял через всю городскую площадь, по ковру цвета спелой вишни, прямо к ступеням собора, а вокруг – толпы народа, блеск нарядов, суета сует и прочие мирские соблазны.
Позвал Градоправитель Мудреца, славившегося знанием древних уставов и цитат из творений самого Патриарха Царьградского.
– Отче, – взмолился Градоправитель, – цветут женихи вокруг Любавы, как маки в поле! Один краше другого, усы кручены, кафтаны шиты золотом, речи медовые. А сердце мое не на месте. Кому вручить сокровище мое, дабы и честь ее была соблюдена, и душа не смутилась?
Мудрец погладил седую бороду, прищурился хитро и изрек, словно по-писаному:
– Помнишь ли ты, правитель, слова святейшего Патриарха? «Облачение девицы – тайна души ея, и чем сокровеннее сия тайна, тем паче она сияет красотой неземной». Не тому доверяй, кто на блеск внешний падок, а тому, кто тайну эту узреть и сохранить способен.
– Мудрено говоришь, отче, – вздохнул Градоправитель. – А как узнать такого?
– А вот слушай далее, – невозмутимо продолжил Мудрец. – Патриарх наш говаривал: «Прогулка с девицей по красной дорожке – занятие богоугодное». Думаешь, почему? Да потому что «радость девицы радует ангелов, кои восходят на небо по лестнице, устланной той самой красной дорожкой!» Представь себе: идет девица, сердце ее трепещет от уважения и чистоты, коими окружил ее спутник, улыбается она светло – и ангелы, глядь, уж по дорожке-лестнице вереницей тянутся ввысь, радуясь за нее!
Градоправитель аж присвистнул от удивления.
– Стало быть, спутник ейный ангелам уподобляется? – спросил он робко.
– «Такого уподобления ангелам, – важно поднял палец Мудрец, – в меру сил человеческих, удостаивается не каждый!» Ибо, как сетовал Царьградский Патриарх, «так мало благочестивых мужей на белом свете, коим можно доверить девицу красную». А все потому, что тот, кто сподобился, кто истинно ее ведет, так что ангелы по дорожке той, как по трапу, взбегают, – тот, яко ангел небесный сам, «не любит мира, ни того, что в мире…» Ему не до кафтанов златотканых, не до взглядов завистливых, не до мыслей суетных. Он дело свое ангельское делает – девицу бережет.
Почесал Градоправитель в затылке. Оглядел он женихов-молодцов: один мускулами играет, другой кошельком позвякивает, третий комплиментами сыплет, как горохом. Явно любят они мир и все, что в мире, особенно себя в нем. И тут взгляд его упал на тихого отрока Ивана, стоявшего в сторонке. Одет он был просто, в глазах – ни огня мирского, ни лести, глядел он больше на небо, чем на толпу.
– А попробую-ка я Ивана, – решил Градоправитель, махнув рукой на сомнения.
И что же вы думаете? Иван взял Любаву под руку так бережно, словно нес хрустальный сосуд. Провел ее через всю площадь, не глядя по сторонам, не слушая шепотков, лишь оберегая ее от толчеи да улыбаясь чему-то своему, небесному. И Любава рядом с ним шла так спокойно, так светло, что и впрямь казалось – ангелы над красной дорожкой устроили целое шествие, используя ее как удобную взлетную полосу.
Миссию свою Иван выполнил и, не ожидая наград, удалился к своим делам. А Мудрец, глядя ему вслед, только крякнул довольно:
– Вот вам и ответ, правитель. Не тот хорош, кто блестит, а тот, при ком ангелам по красной дорожке взбираться не совестно. Ищите мужей, что больше на небо поглядывают, чем на мирскую суету – им и девицу доверить можно. Хоть и редки они, ох, редки… как лестницы для ангелов на городских торжищах.
Голгофа на Черепе
В древнем замке, где пылятся атласы человеческих душ, измеренных циркулем и кронциркулем, встретились как-то две тени. Одна принадлежала доктору Иоганну Гаспару Шпурцгейму, неутомимому картографу выпуклостей и впадин, верному ученику, а позже и оппоненту великого Франца Йозефа Галля. Другая тень принадлежала тому, кого доктор, по старой памяти или новому знанию, почтительно звал «Мессир».
Доктор Шпурцгейм, чьи пальцы за долгую земную жизнь ощупали, казалось, все возможные конфигурации черепов, от гениев до безумцев, выглядел задумчивым.
– Мессир, – начал он тихим, словно шелест старых карт, голосом, – была у меня одна затаенная мысль, одна научная гипотеза, которую я тщился проверить всю жизнь, но так и не преуспел. Я искал на черепе то особое место, ту выпуклость или, быть может, впадину, что соответствовала бы… Голгофе. Месту Лобному. Вместилищу того особого склада ума или души, что ведет к жертвенности, к страданию, к великому перелому… Я полагал, что у Спасителей, у Мучеников, у великих Страдальцев должен быть этот знак, эта печать на кости…
Он обвел взглядом тысячи невидимых черепов, которые он измерил и описал.
– Я не нашел его, Мессир. На тысячах черепов – ни следа. Но только сейчас, в этом странном безвременье, я, кажется, понимаю, почему…
Тень Мессира чуть заметно качнулась, словно от скрытой усмешки. В воздухе повисло одно слово, произнесенное беззвучно, но так, что Шпурцгейм его услышал:
– גול… (Гуль…)
Доктор Шпурцгейм медленно поднял на Мессира глаза, в которых отразилось запоздалое, ошеломляющее прозрение. Он устало вздохнул, и в этом вздохе была вся тщета его земных поисков.
– Да, – прошептал он. – Ты прав. Как же я был слеп…
Ибо Голгофа, «Место Лобное», на иврите звучащее как Гульголет, и есть – череп. Не точка на карте, не бугорок способности к страданию, а сама карта, сама территория, сам вмещающий костяной свод. Он искал место на черепе, которое называлось «Череп». Всю жизнь он пытался нанести на карту то, что было самой картой. И лишь там, где циркуль и кронциркуль теряют свою силу, ему открылась эта простая, убийственная в своей очевидности истина: главное место иногда – не точка, а всё целое. А имя ему – Череп.
Илья, Соловей и гостинцы чудные
Не одна славная победа была на счету у Ильи Муромца, да только не всякая добром кончалась. Вот как одолел он Соловья-разбойника, злодея лесного, свистуна окаянного. Скрутил его богатырь, сунул в мешок крепкий, к торокам седла приторочил – и путь держит.
Едет Илья по полю чистому, солнышко припекает, тишина вокруг. А из мешка голос сиплый, вкрадчивый: «Ильюшенька, свет Муромец! Смилуйся, душенька! Развяжи мешок хоть на малость, я тебя гостинцами чудными одарю, каких свет не видывал!»
Задумался Илья. Гостинцы – дело хорошее, да и что ему, Илье, разбойник сделает? Остановил коня, мешок спустил, узел развязал.
«Ну, где дары твои, чудотворец мешочный? Показывай!»
А Соловей хитро прищурился: «Дай свистну разок, в полсилы только, сами явятся».
«Добро, – молвил Илья, а сам Соловья за ворот держит крепко, – свисти, да не балуй!»
И как ударил Соловей трелью тонкой, хитромудрой – глядь, а по траве-мураве, невесть откуда, рассыпались одежды парчовые, горы серебра да злата, цепочки витые, кольца с каменьями драгими – рубины с изумрудами, жемчуга скатные, ожерелья бисерные, шубы собольи… Глаза разбегаются!
«Пощупай, богатырь, пощупай, – шипит Соловей, ухмыляясь в бороду, – убедись, что не привиделось!»
Заблестели у Ильи глаза. Эх, хороши гостинцы! Сунул он Соловья обратно в мешок, да впопыхах-то узел и затянул слабенько – уж больно руки чесались к сокровищам прикоснуться, красотой невиданной переливались они на солнце. Наклонился Илья, протянул ладонь богатырскую, ухватил цепочку золотую, тяжелую…
А Соловей-разбойник только того и ждал. Рванулся из мешка ослабевшего – и был таков, только его и видели! Свистнул на прощанье – да так, что и конь под Ильей попятился.
Остался Илья Муромец один посреди поля чистого. В руке – цепочка золотая, а перед ним – трава-мурава, на которой, может, и были гостинцы чудные, а может, истаяли уже, как утренний туман. А в ушах еще долго стоял свист разбойничий да смешок ехидный.
Почесал Илья в затылке: сила силой, а ухо востро держать надо, да и на блеск чужой не больно-то заглядываться. А то, глядишь, и победа твоя обернется пшиком, а разбойник улетит на волю вольную.
Стезя беглеца
В книгах мудрых говорится о странном пути, предначертанном тем, кто ищет Истину. Путь этот зовется Бегством. Не тем бегством, что от страха перед врагом или погоней, но иным – глубинным, сущностным. Ибо сказано древними: философ, мудрец, всякая душа, взыскующая горнего, непременно должна совершить побег. Стезя беглеца – не прямая дорога, а спираль, где каждый виток – новое понимание самого побега.
Откуда и куда? Отчего бежать тому, кто обрел, казалось бы, покой в знании? Великий Плотин, чья мысль парила в эмпиреях духа, дал ответ в своих «Эннеадах». Он говорил: мир сей дольний опутан тенетами зла, законом глухой необходимости, что связывает душу, влечет ее вниз, к материи, к забвению. Зло здесь не обязательно рыщет с оскаленной пастью; оно – в самой косности бытия, в предсказуемости путей, в забвении первоисточника. Оно «повсеместно», как прах времени, что цепкими пальцами тянет крылья души к земле.
И душа, помнящая иное отечество, тоскует и «всячески стремится избежать зла». А раз зло здесь, значит, бежать нужно отсюда. «Самим нам нужно спасаться бегством», – учит Плотин.
Но что это за бегство? Не просто смена места, не переезд в другую страну или город. Это бегство становится подлинным лишь когда превращается в бегство от самого себя прежнего. Платон дает ключ: «Бегство – это уподобление Богу». Вот истинная цель и суть этого странствия. Ибо уподобление Богу – это не внешнее подражание, но пробуждение того божественного семени, что дремлет в глубине каждой души. Бежать – значит отрясать с себя прах привычки, сбрасывать оковы, выбираться из лабиринта необходимости с его зеркальными стенами ложных отражений, разрывать узы, привязывающие к дольнему. Бежать – значит устремляться мыслью и сердцем к Тому, Кто есть чистая свобода, чистый свет, абсолютное бытие. Как у Джалаладдина Руми, это бегство не столько от мира, сколько к сути мира, к его божественному ядру. Уподобляться Ему – в бесстрастии, в созерцании, в отрешенности от суетного.
И в этом бегстве-уподоблении заключен двойной смысл. Он, конечно, сотериологичен – спасителен. Ибо, отвращаясь от мира сего, душа спасается от его тлена, от его зла, от его забвения. Она вырывается из темницы на волю горнего простора.
Но важнее, быть может, иной аспект – богоуподобительный. Совершая этот побег, душа не просто уходит от, она движется к. Подобно Мейстеру Экхарту, истинный беглец ищет не столько Бога вовне, сколько единства с тем Богом, который уже есть в нем, в самой сокровенной глубине. Каждый шаг прочь от мирского – это шаг навстречу Божественному. Это не дерзкое вторжение, но смиренное следование внутреннему зову, возвращение к своему Истоку. Мудрец-беглец – это не трус, спасающийся от битвы, но пилигрим, идущий к святыне своего подлинного Я.
И идет он, не имея твердых гарантий. Он делает свой шаг – шаг, где вера и любовь сплетаются в единое крыло, несущее его ввысь. Сделает ли Бог Свой встречный шаг? Откроется ли Ему Божественный лик? Беглец не знает наверняка. Он лишь уповает. Его бегство – это акт доверия, бросок в Океан Божественного, где каждая волна – новый лик Абсолюта, надежда на то, что его стремление к уподоблению найдет отклик, что его полет не оборвется в пустоте.
Если сначала бегство кажется отречением, то в конце пути оно оборачивается величайшей причастностью.
И потому стезя беглеца – это не путь в никуда, а возвращение домой через все миры. Не потеря, а обретение. Не бегство от реальности, а погружение в единственную Реальность, где беглец наконец узнает себя в Том, к Кому бежал всю свою жизнь. И в самом этом бегстве, в самом усилии уподобления – уже не просто отблеск, но полночное солнце Истины, что светит изнутри самого бегства, уже спасение.
Присутствие и одержимость: вера Авраама и упрямство осла Ходжи
Когда Сёрен Кьеркегор, блуждая по лабиринтам своей души и Священного Писания, вновь и вновь возвращался к горе Мориа, он видел нечто большее, чем просто испытание веры. Акедат Ицхак был для него сценой, где происходит телеологическое упразднение этического – Божественное повеление отменяет универсальный моральный закон («не убий»). Но глубже этого парадокса Кьеркегор прозревал иное: нечеловеческую уникальность Авраама, в котором действовало само Всевышнее Присутствие, вовлекая патриарха в сокровенный, непостижимый процесс внутри Божества. Авраам совершает немыслимый прыжок веры, требующий приостановки не только этики, но и самого рационального понимания мира. Это трагическая приостановка, совершаемая в страхе и трепете, в молчании перед лицом Абсолюта. Авраам здесь – фигура на грани, он почти не сомневается в источнике Голоса, его драма – в исполнении.
Если история Авраама – это трагедия, разыгранная под безмолвным небом, то притча о Ходже – это фарс, сыгранный на пыльной дороге под, возможно, не всегда безразличный смех того же неба.
Перенесемся из туманов Копенгагена на пыльные дороги Востока, где вечно актуальный Ходжа Насреддин ведет вечный спор со своим не менее вечным ослом. Вот его грабят разбойники, отнимают все, бьют. И что же Ходжа? Он не взывает к Аллаху или справедливости в ее скучном, человеческом понимании. Он восклицает: «За что же вы меня бьете? Разве я не вовремя пришел, или мало принес?» В этом вопросе – не просто плутовство, но и своего рода телеологическое упразднение рационального. Ходжа мгновенно принимает абсурдную логику ситуации и действует внутри нее. Это тоже приостановка – но не трагическая, а комическая, приостановка здравого смысла перед лицом торжествующего абсурда. Это ответ человека, переживающего свой страх смехом.
И тут на сцену выходит осел. Спасение Ходжи приходит не от ангела с огненным мечом, а от иррационального, почти метафизического упрямства его длинноухого спутника. Осел просто упрям – его упрямство – не просто животный инстинкт, а слепая мудрость бытия, которая порой оказывается прозорливее человеческого разума. Как тот Валаамов осел, узревший ангела прежде пророка, так и этот, возможно, учуял нечто – не горний свет, так хоть серный запашок? И Ходжа, этот диалектик базара, легко принимает и такую возможность: «И даже если в него в тот момент вселился шайтан, я поклонюсь шайтану…» Он, в отличие от Авраама, не обременен проблемой источника: раз уж шайтан – не князь тьмы, а, видать, мелкий бес-проказник, чья одержимость случайно оказалась спасительной (как если бы Люцифер ненароком сотворил чудо), то почему бы не воздать ему должное?
Вот она, точка пересечения – или скорее, забавного рикошета. Шайтан в осле как гротескная инверсия Бога в Аврааме. И там, и там – встреча с Другим, с силой, ломающей привычный ход вещей и требующей выхода за рамки. Но ответы разнятся. Авраам – молчание и жертва. Ходжа – прагматичная благодарность и готовность принять любую версию событий, лишь бы она работала. В мире Ходжи, как часто в народной мудрости, границы между священным и профанным, спасительным и бесовским проницаемы. Может, осел просто устал, а может, шайтан решил подшутить – какая разница, если ты жив и почти цел?
Итак, два сюжета, два способа встречи с Непостижимым, два ответа на абсурд бытия. Авраам – трагическое принятие, молчаливый прыжок в бездну веры. Ходжа – комическое обыгрывание, смех как способ абсорбировать абсурд. И не является ли эта мудрость Ходжи, его готовность целовать копыта ослу (и шайтану в нем), своего рода вывернутой наизнанку кьеркегоровской верой? Верой не в Бога вопреки разуму, а верой в саму жизнь вопреки ее очевидной бессмыслице, верой, находящей спасение в самом нелепом – хоть в осле, хоть в шайтане, как повезет.
В конечном счете, и гора Мориа, и пыльная дорога Ходжи ведут к одной истине: человек всегда стоит перед Непостижимым, будь то молчащий Бог или кричащий осел. И возможно, настоящая мудрость – это не выбирать между трепетом и смехом, а уметь вмещать оба этих ответа, как вмещает их сама жизнь, где трагедия и фарс суть две стороны одной монеты, отчеканенной не иначе как в мастерской самого Абсурда.
Глас тишины и шум учителей
В лабиринтах человеческого сознания, там, где оно соприкасается с тем, что именуют Бессознательным, Космическим или Божественным, рождаются феномены, ставящие под вопрос сами границы нашего познания. Опыт опосредованной связи с Высшим – будь то через автоматическое письмо, видения или общение с сущностями вроде «Махатм» – неизбежно поднимает вопрос о природе этой связи. Где грань между подлинным контактом и сложной игрой когнитивных структур самого сознания?
Можно допустить, что «Махатма» или любой другой «Учитель», являющийся в измененных состояниях сознания, вполне реален – но как когнитивная структура, возникшая на стыке личного и коллективного бессознательного, ментального аппарата и того неуловимого «космического Луча». Эта структура становится фокусом, линзой, через которую преломляется некий импульс, обретая форму и голос. И здесь кроется первый парадокс: голос этот неизбежно говорит «своими словами» – словами медиума, окрашенными его культурой, языком, личным опытом.
Но выразим ли Дух словами? Можно ли заключить безграничное в тесные рамки вербальных конструкций, если даже сам язык, по мысли Хайдеггера, будучи «домом бытия», порой скрывает больше, чем открывает? Священные тексты разных традиций намекают на иное. То, что воистину учит, преобразует и открывает человека Высшему, часто действует без слов, исподволь, подобно даосскому у-вэй. Его присутствие ощущается не в громе проповедей, а в той самой тишине, которую Библия описывает как «глас тишины тончайшей» – этот глас, который не звучит, но отзывается, не говорит, но понимается сердцем. Не есть ли он истинный, единственный Учитель?
Если даже контакт с возвышенными «Махатмами» несет в себе этот парадокс посредничества, то что говорить о бесчисленных земных учителях? О тех, кто без всяких измененных состояний сознания берется толковать безмолвную Истину? Зачем безмолвному Духу нужда в громогласных проповедниках? Зачем «космическому Лучу», учащему помимо слов, регрессировать к вербальному уровню? Не потому ли сказано было: «не называйтесь учителями» (Мф. 23:8) – предостережение, которое утонуло в оглушительном шуме истории?
Мир переполнен учителями – древними и современными, от мудрецов до гуру и "инфоцыган". Этот хор учителей подобен рынку, где каждый кричит громче соседа, заглушая тихую мелодию, звучащую в отдалении. Чем громче проповедь, тем дальше она, возможно, от подлинного Учения. Чем объемнее том, тем плотнее он, быть может, заслоняет безмолвную Истину. Не являются ли все эти системы, доктрины, практики своего рода «духовными протезами» или «костылями для души», необходимыми на каком-то этапе, но мешающими идти самостоятельно? Не ищем ли мы во всех этих внешних учителях того Внутреннего Учителя, которого боимся услышать в тишине собственного сердца?
Истинные Мастера прошлого часто указывали на этот парадокс. Лао-цзы роняет: «Знающий не говорит, говорящий не знает». Будда хранит «благородное молчание» в ответ на метафизические вопросы. Христос молчит перед Пилатом, когда слова уже бессильны. Их молчание порой красноречивее любых проповедей.
Быть может, величайший урок всех учителей, как небесных, так и земных, – это урок о пределе их собственных слов, о необходимости вслушаться в то, что звучит за словами, между ними, в паузах. И когда последнее слово последнего учителя замрет в пустоте, возможно, мы наконец услышим то, что пытались сказать все они, каждый на свой лад, – безмолвный глас самой Истины.
Свобода легкости и бремя бунта: от Екклесиаста до "Общества похуистов" и обратно
В тени великого Екклесиаста, с его меланхоличным рефреном «Суета сует, всё – суета!», человеческий дух ищет тропы к свободе. Если все преходяще, если мудрость и глупость, богатство и бедность равно обращаются в прах, то не кроется ли истинная мудрость в некой форме философской легкости, в изящном пожатии плеч перед лицом неотвратимости? Именно такую тропу, похоже, нащупал поэт Игорь Губерман, предложив концепцию, игриво названную им «похуизмом».
Это не вульгарное наплевательство, но продуманная жизненная позиция, рожденная, как видится, из диалога с тем же Соломоном-скептиком. Раз все тлен, раз все уйдет в никуда, то зачем обременять себя излишними требованиями к миру, людям, судьбе? Не разумнее ли встречать превратности бытия с улыбкой, уступать дорогу, не толкаться локтями? «Похуизм» в этой интерпретации предстает как высшая свобода через занижение внешних притязаний. Это почти стоицизм, но без его суровой аскезы, приправленный горьковатой иронией. Человек освобождается от тирании ожиданий, от фрустрации несбывшихся надежд. В идеале – «общество похуистов», где царит вежливое безразличие, уступающее дорогу не из страха, а из понимания тщетности борьбы за место под солнцем суеты.
Однако здесь возникает первый парадокс, тонко подмеченный самим автором концепции: эта внешняя легкость и снижение требований к миру сочетаются с сохранением и даже возрастанием требований к себе. Как это возможно? Если все суета, то зачем требовать чего-то от себя? Не есть ли это скрытая форма той же самой суеты, лишь перенесенная вовнутрь? Или же это необходимый противовес? Чтобы обрести свободу от внешнего, нужно выстроить некую внутреннюю цитадель самодисциплины? «Похуизм» тогда оказывается не столько полным безразличием, сколько перенаправлением энергии – с борьбы с миром на работу над собой. Но не таится ли здесь ловушка – стать аскетом во имя безразличия?