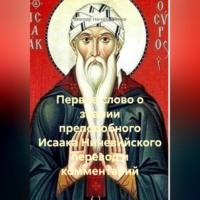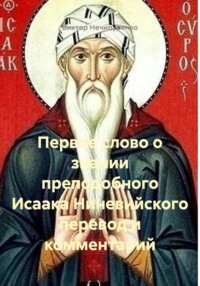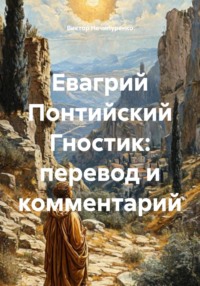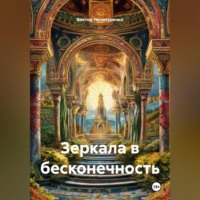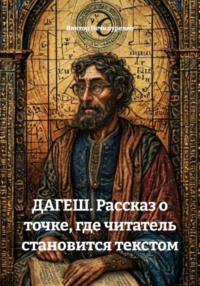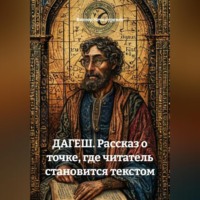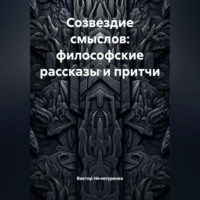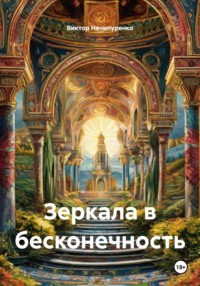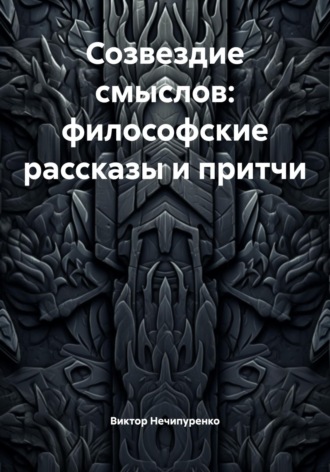
Полная версия
Созвездие смыслов: философские рассказы и притчи
– Вот ты уже и последовал за мной.
III. Почему просветление нельзя повторить (но можно случайно наступить на него)
Потому что:
Череп Вонхе – не реликвия, а случайность.
Луна – не символ, а просто Луна.
Дождь – не благословение, а просто вода.
Но в один миг – между вдохом и выдохом, между ударом капли о кость и её скольжением в горло – всё сложилось.
Как планеты, которые в ту ночь выстроились в линию, о которой астрономы узнали лишь спустя века.
IV. Так как же следовать за Учителем?
– Не верьте мне, – сказал бы Вонхе. – Не верьте даже тому, что я не хочу, чтобы вы мне верили. Просто однажды… перестаньте искать "как". И тогда, возможно, вы споткнётесь о собственное просветление.
Последняя мудрость (которую тоже не стоит принимать всерьёз)
Настоящий учитель – не тот, кто ведёт, а тот, кто заставляет вас усомниться в самой необходимости пути.
Просветление – это не опыт Вонхе. Это ваша версия бессонной ночи, ваш случайный череп, ваша Луна в луже.
Сомнение – уже начало пути. Как сказал Учитель: "Ты не веришь? Отлично. Теперь ты готов."
P.S. Если когда-нибудь найдёте два черепа, сложенных крестом – не торопитесь пить из них. Сначала спросите себя: "А вдруг это просто кости?" Если ответите "Ну и что?" – возможно, вы уже на краю прозрения.
Пляска под струны тьмы
В доме, где тени дрожали на стенах, дитя сажали за фортепиано и скрипку. Клавиши и струны пели реквиемы – Берлиоз, Моцарт, Верди, Форе, Брамс, – а позже шептались «Вальс» Равеля, Соната Шопена и Десятая симфония Малера. В этих звуках проступала красота, острая, как лезвие, – Диавол склонялся над нотами, касаясь их когтями. Музыка сплетала танец смерти с мистической страстью, эротикой теней и эзотерическим шёпотом о посмертном свете, унося за грань – в фонический хаос иного мира.
Звуки ткали вокруг кромешную тьму – σκότος τὸ ἐξώτερον, – где вставали кладбища и склепы, острова мёртвых и Елисейские поля. Вечная ночь качала в экстазе избранные души, открывая им тайну: Смерть и Жизнь – одно, Диавол и Бог – зеркала друг друга. Музыка становилась ψυχοπομπός, лодкой через реку в «тот свет», где народная церковь бойко торгует билетами, выкрикивая De profundis. Гимн агонии расцветал красками предсмертных судорог, импрессионистским мазком на холсте небытия.
И когда ноги ступали в круг с религиозными плясунами, и когда тени патриархов кружились рядом, не был ли это Χορός τοῦ Θανάτου – Пляска Смерти? Жизнь играла беспечно, стуча в барабан, а струны тьмы вели хоровод, где Диавол подмигивал из-за нотного стана. Красота звука – ловушка, что манит к пропасти, обещая откровение, но оставляя лишь эхо шагов на краю.
Жаба, которая плакала вместо меня
Парадокс целителя: история доктора Реттига
Парадокс первый: врач, помогающий другим победить то, что не смог победить сам. Доктор Реттиг был блестящим специалистом по химии мозга и нейромедиаторам, знал всё о механизмах зависимости и её разрушительной силе. Но академическое знание оказалось бессильным. Тогда он обратился к древней мудрости – к знаниям целителей майя, которые использовали природные ритуальные практики и называли это прикосновением к истине.
Парадокс второй: Пустынный Целитель. Существо, само неспособное к слезам, но дарующее очищающий плач тем, кто проходит через его мистерию. Древний ритуал становится мостом между:
• обыденным сознанием и прозрением,
• страданием и исцелением,
• вопросом "кто я?" и готовностью принять ответ.
Доктор Реттиг предлагал людям не просто терапию – он давал им священное зеркало, в котором их страхи, зависимости и депрессии становились настолько незначительными, что теряли свою власть над душой.
Парадокс третий: самая эффективная практика трансформации сознания на Западе проводится по благословению старейшин племени, которое технократическая цивилизация некогда считала "примитивным". Теперь хранители древних традиций помогают "прогрессивному" обществу исцелиться от ран, нанесённых прогрессом.
В этой истории сплелись наука и шаманизм, западная медицина и древняя мудрость, гордыня разума и смирение перед тайной. История доктора Реттига напоминает нам: иногда нужно потерять всё, чтобы найти путь к истинному исцелению.
Последний парадокс: я, написавший эти строки, не пробовал жабий яд. Но когда читаю о тех, кто "не может осмыслить пережитый опыт", я завидую. Потому что наша главная болезнь – не наркотики или депрессия, а чрезмерная осмысленность. Мы умираем не от ядов, а от объяснений.
Возможно, настоящая медицина будущего – это не таблетка, а жаба. Не анализ, а невыразимый опыт. И если однажды вы увидите доктора Реттига – спросите его:
– Доктор, а вы лечите также от понимания?
И если он кивнет – смело открывайте рот. Жаба уже на подходе.
P.S. Говорят, после церемонии пациенты перестают бояться смерти. Но начинают бояться того, что скажут, когда вернутся.
Фрактальные зеркала самоподобия
В землях Арканума, где узоры небес сотканы из пепла и звёзд, а реки шепчутся с тенями древних лесов, магистр Хаусдорф открыл тайну святых мощей. Не кости праведников, как думали простаки, а фрактальные реликвии – осколки вечности, что мерцали в алтарях забытых храмов. Их называли Зеркалами Самоподобия, ибо каждый осколок, будь то пылинка или громада, повторял целое – бесконечный узор, что ускользал от взгляда и линейки.
В башне из чёрного обсидиана Хаусдорф вглядывался в мощи через окуляр эфирного кристалла. Они не поддавались законам смертных измерений: ребро кости ветвилось в тысячи копий, каждая – уменьшенная тень другой, но искажённая, словно отражение в кривом зеркале. Одни сияли квази-самоподобием, повторяя узор левого края в каждом масштабе, другие – мультифракталами, где симметрия танцевала, меняясь от точки к точке. Их размерность, как было сказано древнем трактате Мандельброта, превышала пределы мира трёх измерений, уходя в тени четвёртого – Хаос Развёртывания.
Эти мощи не просто лежали в саркофагах. Они жили, дышали, множились. Каждый осколок, разломанный жрецом, рождал новый, подобный целому, но иной – симуляция святыни, что прорастала, как корни в пустоте. Легенды гласили: в начале времён Первый Архонт разбил Ключ Вечности, и его части стали мощами, фрактальными семенами, что хранят порядок мироздания. Но Хаусдорф видел больше: они – не просто память богов, а инструмент переписывания судьбы.
Век за веком Консорциум Хранителей – союз жрецов, алхимиков и теневых владык – собирал мощи, вплетая их в ритуалы. Фракталы служили модулями магии: из осколка вырастали храмы, из пыли – догмы, из симметрии – законы. Они перепрограммировали племена, что пели на разных языках, заставляя их видеть единый узор – неофеодальный гобелен мрака и веры. Один жрец шепнул заклятье над мощами, и деревня забыла свой наречённый говор, другой вонзил фрактал в землю – и вырос город, где улицы повторяли изгиб кости. Затраты на хаос сокращались, а контроль ширился, как ветви фрактала в бесконечность.
Но была тайна, что жгла умы Консорциума. Мощи не мерились линейкой смертных – их границы, нижняя и верхняя, растворялись в эфире. Разломи кость – и она станет песчинкой, вдохни песчинку – и она развернётся в гору. Хаусдорф начертал в своём гримуаре: «Это геометрия богов, где часть есть целое, а целое – лишь намёк». Жрецы мечтали: если овладеть их размерностью, можно переписать не только землю, но и звёзды.
Однажды в ночи, под алым небом, юный послушник коснулся мощей без дозволения. Его рука дрогнула, и фрактал раскололся, вспыхнув, как звезда. Узор побежал по воздуху, земле, коже – и мир вокруг стал зеркалом мощей. Деревья повторяли своими ветвями – кости, облака – их изгибы, а люди шептались, не понимая, что стали частью симметрии. Консорциум замкнул их в лицензии закрытого кода, но поздно: фракталы вырвались, и Арканум начал расти сам в себя.
Где конец их танца? В башне Хаусдорф молчал, глядя, как звёзды над ним ветвятся, мультиплицируются подобно мощам. Возможно, фракталы святыни – не дар, а ловушка, что пожирает мир, пока он не станет их отражением.
Зерно веры и движение пальцев Пророка
В медресе, где свет лампад дробился на стенах, а шелест страниц сливался с ветром пустынь, однажды читали хадис из «Сахих» имама аль-Бухари, да будет доволен им Аллах. Анас, да осенит его милость, передал слова Посланника, да благословит его Аллах и приветствует: «В День воскресения мне дадут право заступничества. Я скажу: "О Господь мой! Введи в рай тех, у кого в сердце было веры с горчичное зерно!" – и они войдут. А затем: "Введи тех, у кого было хоть что-нибудь!"». Анас сказал: «И у меня до сих пор стоят перед глазами пальцы Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует».
Слова эти, простые и острые, как клинок, повисли в воздухе. Что значило «хоть что-нибудь»? И что за знак оставило движение пальцев Пророка, мелькнувшее в рассказе Анаса? Толкования, хранимые в книгах, молчали или шептали слишком громко, не касаясь сути. Жест тот – не просто взмах руки, но тень тайны, что ускользает, как песок из ладони.
Горчичное зерно – малость, вмещающая бесконечность. Вера, тоньше пылинки, но тяжелее гор, отворяет врата. А «хоть что-нибудь»? Здесь разум теряет опору: достаточно ли искры, едва тлеющей в сердце, чтобы переступить грань? Пальцы Пророка двигались, чертя в воздухе фигуру – круг ли, крест ли, или нечто, чему нет имени в языках смертных? Анас видел, но не назвал, оставив эхо движения дрожать между строк.
В ночи, когда звёзды смотрят вниз, словно судьи, знак тот проступает в тенях мысли. Он не ясен, не чёток – лишь намёк, что будит вопрос: измеряется ли вера весом сердца или мерой вне меры? Быть может, движение пальцев указало на рубеж, где слова иссякают, а милость начинается. Или на пустоту, что полна сама собой.
Хадис молчит, как пустыня перед рассветом. Толкователи ищут, но ловят лишь отражения. Движение пальцев Пророка – неуловимое, как ветер, что гонит песок, но не оставляет следа. И всё же в этом «хоть что-нибудь» – отблеск: малое зерно веры, запечатлённое в жесте, шире небес, ибо вмещает тех, кто едва решился надеяться.
Оковы с пелёнок
Жан-Жак Руссо провозгласил: «Человек рождается свободным, а между тем всюду он в оковах». Но в тени этих слов проступает иная правда: маленький человек, тот, что множится в толпе, приходит в мир уже рабом. Едва он открывает глаза, социальная машина – обычаи, нравы, религии, вожди, идеологии – обволакивает его сознание, как паутина муху. Её нити тонки, но прочны, и нет в них ни щели для собственного дыхания.
Иллюзия выбора кружит над ним, как призрак. Ему кажется, он волен взять религию, науку, ремесло, поставить галочку в бюллетене. Но что он берёт? Лишь то, что подсунуто – заранее вылепленное, как глиняная фигурка в руках мастера. Классик заметил: «Жить в обществе и быть свободным от него нельзя». Государство и толпа – кузнецы, что выковали его цепи, оставив от eigen-Sein, своего бытия, лишь тень, а от eigen-Bewusstsein, своего сознания, – пустой отголосок.
Свобода – мера человечности, чистое «Я», что светится за грудой хлама – идеологий, культов, мусора для мозгов. Человек, что ищет себя, подобен тому, кого Диоген высматривал с фонарём в полдень. Его путь – не бегство, но раскалывание оков: déconstruction, разлом конструктов, что вросли в разум, релятивизация догм, что шепчут: «Ты – это мы». Каждое движение – шаг к зеркалу, где лицо его станет не маской толпы, а отражением собственного света.
Однажды в городе, где улицы гудели от шагов одинаковых теней, некто остановился. Он смотрел на свои руки, скованные невидимым, и спросил пустоту: «Где я?» Ответа не было – лишь ветер подхватил клочок бумаги с лозунгом дня и унёс его в пыль. Может, свобода – в этом ветре, что не спрашивает разрешения? Или в молчании, что следует за вопросом? Город гудел, а он пошёл дальше, ломая в уме то, что не видел глазами.
Тень мравольва
В лесах Эриданны обитал мраволев – существо, рожденное проклятьем. Спереди – лев, рычащий и гордый, сзади – муравей, чьи члены извивались навыворот, противоестественные и жалкие. Так писал Козьма Индикоплов в «Христианской топографии», ссылаясь на старые свитки: отец его – лев, что рвал мясо, мать – муравьиха, что жевала траву. От их союза явился он, мраволев, обречённый на гибель, ибо не мог ни мяса вкушать, ни травы переваривать. «Погибе, занеже не имеяше брашна», – эхом звучало из Книги Иова.
Но не вся правда лежала в пергаментах. Мраволев не умирал – он охотился иначе. В глубине чащ, где лунный свет дробился о листья, он находил муравьёв, мелких и беззащитных. Одним движением когтистой лапы он касался их, и чары текли, как чёрная смола: муравей вздрагивал, раздувался, обрастал шерстью и клыками – становился подобием своего мучителя. Так мраволев множил себя, создавая стаю, что рычала и копошилась, пока не истощала лес.
Однажды путник, чьи сапоги истёрлись о камни Эриданны, повстречал девицу у ручья. Её глаза блестели тревогой, а голос дрожал, как струна перед разрывом. Она поведала: шла она тропой, когда из кустов вырвался мраволев – рык его оглушил, страсть его ослепила. Он напал, и в звериной маске она разглядела лицо – не просто львиное, но знакомое: черты епископа Илариона, что проповедовал в её городе. «Теперь, – шептала она, – я ношу его семя. Оно растёт во мне, как шип в ране, и я боюсь дня, когда плод этот явится миру».
Путник замер, слова её легли на душу, как тень от крыла. Мраволев, что обращает муравьёв в чудовищ, стал ли он семенем иной тьмы? Не антихрист ли зреет в чреве девицы – дитя льва и муравья, епископа и зверя? Лес молчал, но в шорохе ветвей слышалось: этот мир – не просто земля, а поле, где прорастают проклятья.
Говорят, мраволевы всё ещё бродят в чаще, касаясь мелких тварей и множа хаос. А девица исчезла, оставив за собой лишь слухи – о младенце с клыками и чёрными крыльями, что однажды выйдет из тени леса, рыча гимны погибели.
Последний танец шаха
В стародавние времена жили властители, умевшие пить жизнь до последней капли. Среди них был шах Джахангир – повелитель, чьё имя произносили с придыханием, чья слава меркла лишь перед тенью собственного сына. Великий Джахан Бахадур, рождённый от его крови, вознёсся на престол, низвергнув отца, заточив его в золочёной клетке роскошного плена. Но разве можно заковать в цепи того, чья душа пляшет с самим Эросом?
Старый шах, седой, но не сломленный, с глазами, в которых тлели угли былых страстей, не признал поражения. Он созывал к себе наложниц – гибких, как ивовые плети, благоухающих шафраном и жасмином, с кожей, отливающей мёдом при лунном свете. Ночь за ночью запертый дворец превращался в безумный сад наслаждений: шёлковые покрывала скользили на пол, как падающие лепестки, смех звенел, сплетаясь со стоном, а тени танцовщиц извивались на стенах, будто демоны, вызванные древним заклинанием.
Говорят, в последнюю ночь он прижал к груди черноглазую Зарину, чьи губы были слаще спелых гранатов, и прошептал: «Если суждено умереть – пусть смерть найдёт меня не в оковах, а в объятиях вечной страсти». И небеса, словно подчиняясь его воле, сжалились над старым грешником.
Луна в ту ночь висела над минаретами, как огромный персидский фонарь, заливая покои млечным светом. Джахангир возлёг с Зариной, и её пальцы, ловкие и нежные, словно паучий шёлк, скользили по его иссохшей груди, пробуждая в ней жар давно забытой молодости. Его старческие руки, дрожащие, но ненасытные, отвечали ей с яростью юноши, впитывая каждое прикосновение, как песок пустыни впитывает первую каплю дождя. И когда экстаз накрыл его, как внезапная буря с гор, дух шаха вырвался из тела – не с хрипом, не с предсмертным стоном, а с криком, в котором смешались восторг и торжество.
Утром слуги, осторожно приоткрыв дверь, застыли на пороге: шах лежал с застывшей улыбкой, а Зарина, бледная, но спокойная, поправляла свои растрёпанные косы. «Он ушёл, как и жил – сражаясь», – прошептала она, и никто не знал, говорила ли она о битве с смертью или о последнем любовном поединке.
В гареме ещё долго шептались, передавая из уст в уста историю его кончины: «Он обманул саму Судьбу, превратив последний вздох в пир». Стражники же, терзаемые сомнениями, спорили – то ли это была милость Аллаха, то ли последняя хитрость Джахангира, сумевшего ускользнуть даже от тлена скуки.
А один старый мудрец, потягивая гранатовый шербет в тени деревьев, изрёк: «Если экстаз – это высшая форма молитвы, то Джахангир умер святым». И где-то в тенистых уголках дворца, в шепоте ночного ветра, до сих пор слышится его тихий смех – насмешливый, торжествующий, бросающий вызов самой вечности.
Мастерская форм
На этой грешной земле дети рождались бесформенными – теплыми, податливыми комьями плоти, лишенными очертаний. Их можно было мять, вытягивать, сплющивать – будто не живые души, а сырой материал, ожидающий рукотворного воплощения. И руки находились сразу: безликие мастера в серых халатах, с лицами, стертыми до полной анонимности, принимались за работу. Государство подавало чертежи, и комки обретали форму – то острые, как лозунги, то округлые, как церковные купола.
Из них лепили комсомолок с пламенными взорами, пионеров с алыми галстуками, трепещущих, как язычки огня. Из них же вытягивали православных девочек в белых платочках, чьи губы беззвучно шептали молитвы, а пальцы складывались в крестное знамение. Лепили будущих трансгендеров с глазами, мутными от запутанных вопросов, ЛГБТ-активистов, чьи жесты были резки, как манифесты. Формовали украинских националистов с выжженным в зрачках трезубцем, исламских фанатиков-шахидов, нацистов всех мастей – с челюстями, зажатыми в ритуальном оскале. Всё было до смешного просто: не Бог, не природа, не случай определяли судьбу – лишь холодная логика социального инженеринга. Мастерская гудела, печи раскалялись докрасна, а на конвейере человеческих форм не было места браку.
Детей обжигали в печах идеологии, покрывали глазурью догм, расписывали яркими красками – то киноварью патриотизма, то позолотой традиции. Они складывались в гигантскую мандалу – не буддийскую, не индуистскую, а свою, особую: с крестами, серпами и молотами, пятиконечными звёздами, исламскими полумесяцами, арабской вязью коранических аятов, готическими буквами "Mein Kampf", выведенными с педантичной точностью. Каждый ребёнок становился фрагментом узора: здесь завиток слепой веры, там – геометрически точный угол долга. Мастера любовались своей работой, проводили ладонями по идеально ровным линиям. «Смотрите, какая гармония!» – восклицали они, и заказчики согласно кивали, потирая руки.
Но время – коварный зритель, равнодушный к спектаклю порядка – не стояло на месте. Пока глина сохла, в углах мастерской, в её сырых, непросыхающих тенях, проступал контур Ваджры – алмазной молнии, не знающей преград. Её острие сверкало, как лезвие гильотины, обещая не просто разрушение, а возвращение к изначальному хаосу.
И тогда узоры начали трескаться.
Краски осыпались, оставляя после себя серую, безликую пыль. Мандала, такая пёстрая и гордая, дрогнула – сначала едва заметно, потом всё сильнее, пока не рухнула вниз, рассыпавшись на тысячи одинаковых, ничем не примечательных осколков. Мастера замерли, глядя, как их труд возвращается в Пустоту. Один из них, самый старый, тот, что когда-то ещё помнил вкус свободы, тихо рассмеялся.
«Game over», – прошептал он, и смех его был похож на скрип ржавых петель.
Прах времени осел на страницах истории. Юные души, что когда-то пламенели разными идеалами и верованиями – все они растворились в вечности, как утренний туман. Каждое поколение несло свои знамёна, каждое верило в свою правду, каждое считало именно свой путь единственно верным. Но время, этот великий примиритель, приняло их всех в свои объятия без различия. В этом есть своя пронзительная мудрость: все мы – лишь мимолётные узоры на полотне вечности. Мастерская опустела. Лишь ветер гулял меж пустых станков конвейера, напевая на ухо последнему оставшемуся: «Лепите снова… Пока есть глина».
Но где-то за гранью, в тени ещё не рождённых эпох, уже сверкала новая Ваджра. И она не оставляла шансов ни одной форме.
Притча из книжной лавки
Жил-был Ученый, чья жизнь была соткана из букв и выстроена по цитатам. Он знал твердо: мир устроен так, как описано в самых почтенных фолиантах, чьи страницы хранили пыль веков и авторитет имен. В один из дней, прохаживаясь по лабиринтам книжной лавки, словно по саду уже известных ему истин, он взял в руки увесистый том под названием «О Природе Бесплотных Сил».
«Да, да, – удовлетворенно кивал он, пробегая строки знакомым взглядом, – все верно. Ангелы – чистые духи, не имеющие ни души в нашем понимании, ни, уж конечно, тела… Ибо тело – удел тварного, земного, преходящего…» Он мысленно перебирал имена теологов, чьи слова подтверждали эту незыблемую истину, и уже предвкушал, как эта книга украсит его полку, став еще одним камнем в фундаменте его стройного знания. С уверенной поступью знатока он направился к прилавку.
И тут тонкий, словно звонкий ручеек, голос остановил его:
– Дядя, дядя…
Ученый опустил взгляд. Перед ним стоял мальчик лет девяти, с ясными, как утреннее небо, глазами. В руках у мальчика не было книг, лишь любопытство светилось в его взоре.
– Дядя, – повторил он чуть тише, кивнув на толстый том, – я вам не советую… торопиться.
Ученый усмехнулся снисходительно.
– Почему же, юный друг? – спросил он, ожидая услышать какую-нибудь детскую нелепицу. – Боишься, что книга слишком сложна для меня? Или цена кусается?
– Нет, – мальчик покачал головой. – Просто… вы уверены, что там все написано? Может, самые главные буквы спрятались в других книжках? Или даже… не в книжках вовсе? – Он обвел взглядом полки, где рядом с толстыми фолиантами стояли и тонкие брошюры с причудливыми знаками, и книги с картинками, изображающими миры, не похожие на тот, что был описан в томе Ученого. – Мне дедушка рассказывал, – доверительно прошептал мальчик, – что даже у тех, кто светится, как солнышко, бывают одежды… или тела… только совсем-совсем другие, сотканные из света или из песни… Не такие, как наши, но все же… А в больших книгах про это не всегда пишут, потому что это трудно буквами рассказать.
Ученый замер. Слова мальчика, простые, почти наивные, вдруг поколебали его уверенность. Он вспомнил смутные намеки, полузабытые цитаты из писаний, которые он всегда считал аллегориями или заблуждениями – о «световых телах», об «одеяниях славы»… Он подумал о каббалистах, учивших о мирах, где дух обретает форму, о мистиках Востока, говоривших о тонких оболочках… Знание, казавшееся таким прочным и завершенным, вдруг подернулось дымкой сомнения.
Он посмотрел на тяжелый том в своих руках, на строгие ряды букв, обещавших ясность и порядок. Потом снова взглянул на мальчика, на его чистые глаза, в которых не было ни начитанности, ни тяжести цитат, а лишь простая открытость миру.
Он все еще стоял с книгой у кассы, но шаг его уже не был таким уверенным. Зерно сомнения, начало прорастать в саду его незыблемых истин. Может быть, и вправду, не все тайны мира умещаются в самые толстые книги? И не стоит ли иногда прислушаться к лепету тех, кто еще не разучился видеть светящиеся одежды там, где привычный взгляд не видит ничего?
Эхо Перестройки: ребенок с автоматом
Есть эпохи, которые оставляют после себя не столько светлые воспоминания, сколько гулкое эхо боли, растерянности и мрачного, почти иррационального бунта. Время Перестройки и последовавшие за ней годы для многих стали именно таким «хмурым, побитым» периодом. Как метко подметил условный старичок Василий, сама попытка «перестроить» привычный, пусть и плохой, уклад жизни грозила окончательным сползанием в безумие. Это было время, когда земля уходила из-под ног, а будущее рисовалось в таких же сумрачных тонах, как обложки книг Юрия Мамлеева или обшарпанные стены панельных многоэтажек.
Именно в этом душном мареве растерянности и абсурда рождался и звучал «сибирский суицидальный пост-панк» – музыка «Гражданской Обороны». Егор Летов, ее бессменный лидер, не пытался предложить программу выхода или взвешенный анализ происходящего. Его творчество было выхлопом эпохи, ее нервным срывом, ее криком. И сам он, кажется, остро чувствовал природу этого крика. «Я не думаю, что мои песни – песни взрослого человека, – говорил он. – Мои песни – это песни животного. Это песни какого-то ребёнка, которого довели до состояния, когда он автомат в руки взял…».